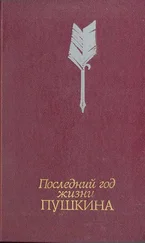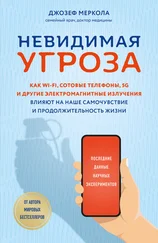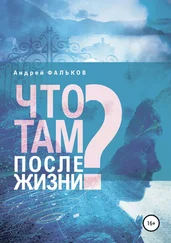[1]
Кун пояснил, что философские работы, которые он не включил в «The Essential Tension», его не удовлетворяли и он не хотел бы их публиковать в настоящей книге. В частности, он твердо решил не включать сюда статью «Функция догмы в научном исследовании» (1963), несмотря на то что многие читали и цитировали ее. ; 3) это должны быть весомые работы, а не краткие заметки или выступления.
Четвертая идея относилась к материалу, рассматриваемому Куном в качестве основы для написания книги, над которой он работал в последние годы. Поскольку мы считаем своим долгом подготовить к изданию именно данную книгу, то решили отказаться от этого материала. Под ограничение попали три важных цикла лекций: «Природа концептуальных изменений» (Перспективы философии науки, Университет Нотр-Дам, 1980), «Развитие науки и лексические изменения» (Thalheimer лекции, университет Джона Хопкинса, 1984) и «Наличие прошлой науки» (Шермановские лекции, Университетский колледж, Лондон, 1987). Хотя записи этих лекций получили распространение и порой цитировались в публикациях некоторых авторов [2] Одна из наиболее известных – статья Яна Хакинга «Работа в новом мире: таксономическое решение» (World Changes: «Thomas Kuhn and the Nature of Science», ed. Paul Horwich [Cambridge, MA: Bradford/ MIT Press, 1993]), где он уточняет и расширяет основную идею Шермановских лекций Куна.
, Кун не хотел, чтобы они в таком виде вошли в эту книгу.
* * *
Статьи, вошедшие в данную книгу, посвящены четырем основным темам. Во-первых, Кун повторяет и защищает мысль, восходящую к «Структуре научных революций» (в дальнейшем просто «Структура»), что наука представляет собой когнитивное эмпирическое исследование природы, проявляющее прогресс особого рода, хотя этот прогресс нельзя мыслить как «все большее приближение к реальности». Прогресс скорее выражается в виде совершенствования технической способности решать головоломки, контролируемой строгими, хотя и всегда привязанными к традиции, стандартами успеха или неудачи. Этот вид прогресса, в своем наиболее полном выражении присущий только науке, является предпосылкой чрезвычайно тонких (и часто весьма дорогих) исследований, характерных для научного познания и для получения удивительно точного и подробного знания.
Во-вторых, Кун развивает идею, опять-таки восходящую к «Структуре», что наука, по существу, – социальное предприятие. Это отчетливо проявляется в периоды сомнений, чреватых более или менее радикальными изменениями. Только благодаря этому индивиды, работающие в рамках общей исследовательской традиции, способны приходить к разным оценкам возникающих перед ними трудностей. При этом одни склоняются к разработке альтернативных (часто кажущихся нелепыми, как любил подчеркивать Кун) возможностей, в то время как другие упорно продолжают пытаться решать проблемы в рамках признанной структуры.
Факт, что при возникновении таких затруднений последние составляют большинство, важен для многообразных научных практик. Проблемы обычно могут быть решены – и в конечном счете решаются. При отсутствии достаточного запаса настойчивости в поиске решений ученый не смог бы дойти до конца в тех редких, но определяющих случаях, когда усилия осуществить полный концептуальный переворот полностью оправдываются. С другой стороны, если бы никто не пытался разрабатывать альтернативы, крупные преобразования не смогли бы возникнуть даже тогда, когда они действительно необходимы.
Таким образом, именно социальная научная традиция способна «распределять концептуальные риски» так, как не смог бы сделать ни один индивид, что позволяет ей обеспечивать долговременную жизнеспособность науки.
В-третьих, Кун разъясняет и подчеркивает аналогию между прогрессивным развитием науки и биологической эволюцией – аналогию, которой он лишь мимоходом касается на последних страницах «Структуры». Разрабатывая эту тему, он отходит от своей первоначальной схемы, согласно которой периоды нормальной науки с единой областью исследования иногда разрываются сокрушительными революциями. Вместо этого он вводит новую схему, где периоды развития в рамках единой традиции иногда сменяются периодами «расщепления» на две различные традиции с отличающимися областями исследования. Конечно, сохраняется возможность, что одна из этих традиций постепенно ослабеет и умрет. В этом случае мы возвращаемся к прежней схеме революций и смены парадигм.
Однако в истории науки обе последующие традиции часто не вполне похожи на общую для них предшествующую традицию и развиваются как новые научные «специальности». В науке видообразование проявляется как специализация.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
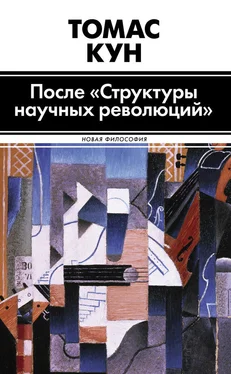

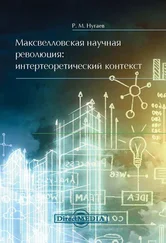

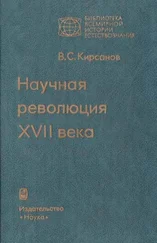


![Мигене Гонсалес-Уипплер - Что происходит после смерти [Научные и личные свидетельства о жизни после смерти]](/books/404175/migene-gonsales-thumb.webp)