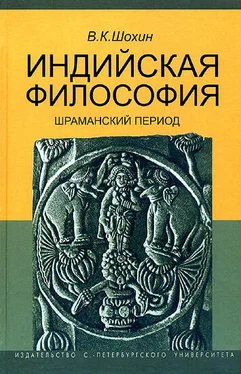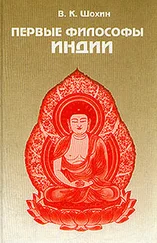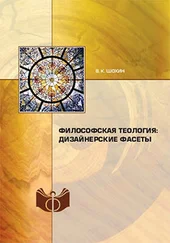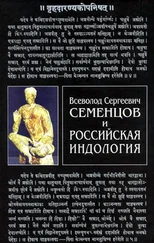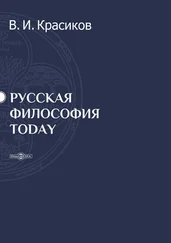Новую стадию древнего «тайнознания» составляют пассажи отдельных гимнов X книги Ригведы. Здесь в ряде случаев появляются новые, абстрактные божества, минимально, в сравнении с другими, персонифицированные, которые на первый взгляд действительно можно принять за философские «начала мира». К ним относятся Речь (Вач), которая рассматривается в качестве общего космического принципа, «движется» с другими богами, «несет» их и из своего лона «расходится по всем существам», «охватывая» их (X. 71, 125). Здесь задаются вопросы о начале мира, его «точке опоры», о том, что это были за лес и дерево, «из которого вытесали небо и землю», что было по ту сторону «богов и демонов» и что явилось тем «первым зародышем», в котором изначально содержались все существа (X. 81, 82). Ведийский риши вопрошает о том неизвестном боге, который возник как «золотой зародыш», стал «единственным господином творения» и поддержал небо и землю (X. 121), но предполагает и то, что многообразный мир со всеми стихиями природы, животными и людьми четырех сословий-варн возник из тела Первочеловека, которого принесли в жертву боги (X. 90), допуская, впрочем, также, что у истоков мира лежит аскетическая энергия ( тапас ), из коей постепенно возникают «закон», «истина», ночь, волнующийся океан и год (X. 190). Те же ведийские «тайнозрители» увидели рождение «сущего» ( cam ) из «не-сущего» (acorn), подразумевая под ними оформленный космос и начальный (точнее, безначальный), неоформленный хаос (X. 72). Другие задавались вопросом о том, что представляло собой то состояние мира, которое предшествовало и сущему, и не-сущему (X. 129) [27]. Дальнейшие памятники Ведийского корпуса воспроизводят мировоззренческие конструкции X книги Ригведы, но добавляют к ним свой новый мыслительный материал и в ряде случаев переструктурируют их.
Так, загадки на темы мистической космологии нередки и в Атхарваведе, где, например, выделяются гимны, посвященные первоначалу Скамбха (букв, «опора», «столб», «колонна» мироздания). В Скамбхе заложены миры, космический жар и космический закон, но сам он непостижим, и стихи сопровождаются рефреном: «Поведай про этого Скамбху: каков же он?» (X. 7, cp. X. 8). Атхарваведа развивает вариации на темы космологических спекуляций Ригведы: специальные гимны посвящены абстрактному женскому божеству Вирадж, «которая одна станет этим миром» (VIII. 10), а также Желанию (Кама), возникшему вначале как «первое семя мысли» (XIX. 52). Но здесь обнаруживается и новое начало мира — Время (Кала), которое собирает миры, охватывая их, будучи одновременно их породителем и порождением, сосредоточивая в себе мысль, дыхание, имя и аскетический жар. В Атхарваведе рассматривается, помимо названного, и Священное Слово — Брахман , которой уже видится высшей сущностью, составляющей основу мироздания (IX. 2; X. 2, 7–8; XI. 4, 8; XIX. 52–54 и т. д.).
В Белой Яджурведе [28], помимо введения новых сущностей, типа Мысли ( манас ) как «бессмертного света» в человеке (XXXIV. 1–6), воспроизводятся диалоги между хотаром и адхварью, которые обмениваются загадками об устройстве мира, в коих можно усмотреть отражение словесного состязания- брахмодьи , ставшего культовым истоком будущей мировоззренческой полемики — определяющего модуса философствования в индийской культуре (XXIII. 45–48).
В брахманах — базовых экзегетических памятниках Ведийского корпуса, — где сама экзегеза сакрального слова и действа построена на сложных и многоступенчатых корреляциях элементов жертвоприношения, человека и мироздания, выявляются, помимо названного, соотносительные приоритеты слова, мысли и первоначало мира — в виде как натуральных феноменов, так и мысли. По-новому переосмысляется и старый вопрос о том, что лежит у истоков мироздания — сущее или не-сущее. Здесь же мы впервые встречаемся с представлением о повторных смертях ( пунармритью ), которое станет истоком учения о реинкарнации. Наконец, в брахманах обнаруживается и начало знаменитой идентификации внутреннего ядра микрокосма с мировым первоначалом — Атмана и Брахмана (Айтарея-брахмана VIII. 28; Шатапатха-брахмана I.4.5.8-11; VI. 1.1.1; X.5.3.1–2, 6.3.1–2; XI.1.6.1 и т. д.).
В араньяках, помимо указанного, прочерчиваются корреляции органов человека, соответствующих способностей и феноменов природного мира. Здесь же выражено представление об Атмане как достигающем все большей «чистоты» сообразно с иерархией живых существ, и при этом подчеркивается особое место человека в мире (Айтарея-араньяка II. 3. 1–2; II. 4. 1 и т. д.).
Читать дальше