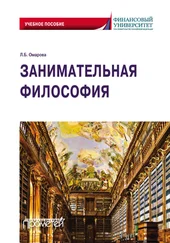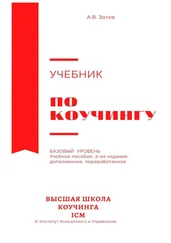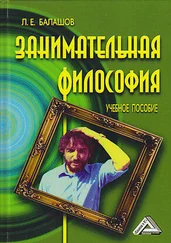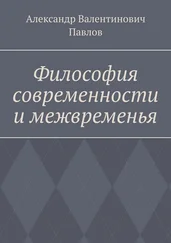В свободе существует определенная диалектика независимости и зависимости. Только независимость — пустота небытия, бомжатничество, смерть. Только зависимость — рабство.
Вот из соединения этих полярно противоположных начал и возникает свобода.
Другие (восточные) высказывания также односторонни и поэтому ложны, как и первая [52] Может быть не совсем точен перевод с китайского?! В относительном смысле высказывание Лао-цзы верно. Действительно, в некоторых случаях разрыв связи-зависимости означает свободу, бо́льшую свободу.
.
Эта направленность на понимание свободы как на отсутствие или разрыв связи с чем или кем-либо феноменально идиотична. Есть связь и связь. Есть связь, которая лишает нас свободы, а есть связь, которая только и делает нас свободными.
Сколько же, однако, глупых высказываний бродит по земле! А вы, молодые, ловитесь на их блеск, как мотыльки, летящие на огонь.
_______________
На сайте Ответы@Май. Кш был задан такой вопрос:
Свобода — это когда ты ничем не связан с миром, в котором находишься?
МОЙ ОТВЕТ
Вопрос некорректный. Свобода, если говорить кратко, — это ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА, притом не всякого, а такого, который ведет к новой возможности выбора.Свобода — сложное переплетение зависимости и независимости, ограничений и выхода за пределы ограничений. Думать, что свобода — это только независимость (от чего-либо) — глупость. Бывают такие зависимости, которые обеспечивают бОлыпую свободу, т. е. бОльшую возможность выбора. Например, взаимозависимость мужа и жены. Вне этой взаимозависимости ты не можешь обеспечить полноценное продолжение рода, дление жизни во времени, а, следовательно, возможность продолжать возможность выбора. Свобода, как и жизнь в целом, имеет свои рамки, ограничения, свою меру. Думать, что свобода — безразмерная величина, ничем не ограничивается, значит ничего не понимать в ней.
О так называемом парадоксе свободы
К. Поппер следующим образом описывает этот парадокс: «Так называемый парадокс свободы показывает, что свобода в смысле отсутствия какого бы то ни было ограничивающего ее контроля должна привести к значительному ее ограничению, так как дает возможность задире поработить кротких. Эту идею очень ясно выразил Платон, хотя несколько иначе и совершенно с иными целями» [53] К. Поппер. Открытое общество и его враги. Т. 1, М., 1992. С. 328. Примечание К. Поппера: «См. „Государство“, 562 Ь-565 с. В тексте я подразумеваю, главным образом, 562 с: „…такое ненасытное стремление к одному“ (к свободе) „и пренебрежение к остальному искажает этот строй и подготовляет нужду в тирании“. См. далее 562d-e: „А кончат они, как ты знаешь, тем, что перестанут считаться даже с законами — писаными или неписаными — чтобы уже вообще ни у кого и ни в чем не было над нами власти… Именно из этого правления… и вырастет, как мне кажется, тирания“… У Платона имеются и другие замечания о парадоксах свободы и демократии („Государство“, 564 а): „Ведь чрезмерная свобода, по-видимому, и для отдельного человека, и для государства обращается не во что иное, как в чрезмерное рабство… Так вот тирания возникает, конечно, не из какого иного строя, как из демократии: иначе говоря, из крайней свободы возникает величайшее и жесточайшее рабство“. См. также „Государство“, 565 c-d)»
.
В другом месте К. Поппер пишет: «Этот парадокс (свободы — Л.Б.) может быть сформулирован следующим образом: неограниченная свобода ведет к своей противоположности, поскольку без защиты и ограничения со стороны закона свобода необходимо приводит к тирании сильных над слабыми. Этот парадокс, в смутной форме восстановленный Руссо, был разрешен Кантом, который потребовал, чтобы свобода каждого человека была ограничена, но не далее тех пределов, которые необходимы для обеспечения равной свободы для всех» [54] К. Поппер. Открытое общество и его враги. Т. 2, М., 1992. С. 56. См. также: «…то, что в предшествующей главе мы назвали парадоксом свободы . Свобода сама себя упраздняет, если она не ограничена. Неограниченная свобода означает, что сильный человек свободен запугать того, кто слабее, и лишить его свободы. Именно поэтому мы требуем такого ограничения свободы государством, при котором свобода каждого человека защищена законом. Никто не должен жить за счет милосердия других, все должны иметь право на защиту со стороны государства». — Там же. С. 145.
.
Как видим, К. Поппер следует И. Канту в понимании парадокса свободы. Между тем уже Гегель подверг критике указанный кантовский тезис. Он писал: «… нет ничего более распространенного, чем представление, что каждый должен ограничивать свою свободу в отношении свободы других, что государство есть состояние этого взаимного ограничения и законы суть сами эти ограничения. В таких представлениях, — продолжает он критику, — свобода понимается только как случайная прихоть и произвол» [55] Гегель. Энцикл. филос. наук. Т. 3, М., 1977. С. 353–354 [§ 539].
. В самом деле, если свободу понимать только в негативном смысле, как то, что надо ограничивать, она неизбежно сближается с прихотью-произволом.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Лев Балашов Занимательная философия. Учебное пособие [6-е издание, переработанное и дополненное] обложка книги](/books/388554/lev-balashov-zanimatelnaya-filosofiya-uchebnoe-posobie-6-e-izdanie-pererabotannoe-i-dopolnennoe-cover.webp)