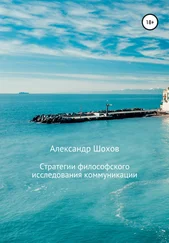Долгое время замену критерию речи искали в морфологии и анатомии. В сравнительной анатомии искал ключ к загадке человека Иоганн Готфрид Гердер, и ему казалось, что он нашел его в прямохождении . Гердер был уверен, что человеческий разум – следствие вертикального положения тела 13 13 См.: Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. – М., 1977. С. 77–80.
. И до сих пор находятся специалисты, которые указывают на прямохождение как главный отличительный признак человека, но преодолеть декартову пропасть это не помогает.
Что, однако, не означает, что преодолеть ее невозможно. Значительный вклад в дело ее преодоления внес советский психолог Лев Семенович Выготский, который, в значительной части опираясь на исследования французского психолога Жана Пиаже и их же критикуя, положил начало некогда очень плодотворному течению в психологии, утверждавшему центральное место речи в формировании и функционировании человеческой психики. «Мысль не выражается, но совершается в слове» 14 14 Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: «АСТ», 2008, с. 426.
, – эти слова, опубликованные в 1934 г., как потом оказалось, содержали в себе программу исследований советской психологической науки на долгие годы.
«Нужно было много лет, – начиная с исследований самого Л. С. Выготского, опытов А. Н. Леонтьева по развитию сложных форм памяти, исследований А. Р. Лурия и А. В. Запорожца по формированию произвольных движений и речевой регуляции действий и кончая теоретически прозрачными работами П. Я. Гальперина и Д. Б. Эльконина, – чтобы учение о формировании высших психических функций и формах управления ими, составляющие сердцевину советской психологии, приняло свои достаточно очерченные формы» 15 15 Лурия А.Р. Теория развития высших психических функций в советской психологии // Вопросы философии. М., 1966, № 7, с. 76. Здесь также, справедливости ради, хочется упомянуть, что уже через год после выхода «Мышления и речи» Л. С. Выготского, в 1935 году, вышла в свет книга П. П. Блонского, посвященная исследованию памяти, в которой он, независимо от Выготского, высказал во многом созвучные мысли. (См.: Блонский П.П. Память и мышление. СПб: «Питер», 2001).
.
Однако большинство современных психологов, – из идеологических, предположительно, соображений, – находят возможным игнорировать или замалчивать результаты этих исследований и их теоретические выводы. Хорошей иллюстрацией может служить опубликованная в России несколько лет назад книга американского психолога Майкла Томаселло, который в специально написанном к русскому изданию предисловии утверждает, что «заимствовал у Выготского основополагающую гипотезу» 16 16 Томаселло М. Истоки человеческого общения. М.: «Языки славянских культур», 2011, с. 26.
, но при этом исходит из совершенно противоположной гипотезы: у Томаселло мысль именно выражается, а не совершается в слове. Сам Томаселло под «основополагающей гипотезой» Выготского подразумевал здесь концепцию интериоризации – примата социального над индивидуальным в процессе становления человеческой психики, но можно сомневаться, что и эта гипотеза была понята им до конца, так как именно из нее для Выготского и следовал примат речи над мышлением. При этом высказанные в книге Томаселло идеи об уникальности некоторых человеческих свойств могут представлять для нас несомненный интерес, перекликаясь с идеями Поршнева и отсылая к теории суггестии и интердикции, но, к сожалению, автору не удалось развить их в полной мере из-за контрпродуктивности принятой по умолчанию начальной посылки.
Но вернемся к философии. Средневековая традиция предписывала взгляд на историю человечества через призму «священной истории», соответственно, начиная ее развитие с «грехопадения». Рациональное мышление Нового времени уже не могло принимать эту традицию всерьез, о чем свидетельствует статья Иммануила Канта «Предполагаемое начало человеческой истории» 17 17 Кант И. Предполагаемое начало человеческой истории. // Кант И. Сочинения. В 8-ми томах. Т. 8. М.: «Чоро», 1994, с. 72–88.
(1786). Кант анализирует библейский сюжет в полушутливом тоне, но шутит не без претензии на долю правды. В истории «грехопадения» он видит аллегорию перехода человека от дикости, подчиняющейся «божественному» инстинкту , к свободе, которую отныне, на протяжении истории, человеку предстояло развивать, привыкая жить в обществе.
Несмотря на религиозную форму, а отчасти и благодаря ей, Кант подошел к вопросу о начале человеческой истории ближе, чем Гегель, для которого история человечества начинается с возникновения государства, а все, что ранее – «доистория», о которой достоверно ничего неизвестно. В философии истории Гегеля вопрос о начале человеческой истории фактически обойден, а то, что сам Гегель называет началом истории, относится к ранним государствам Востока 18 18 См.: Гегель Г.В.Ф. Лекции по философии истории. СПб: «Наука», 1993, с. 155.
.
Читать дальше
![Виталий Глущенко Рождение человечества [Начало человеческой истории как предмет социально-философского исследования] [litres] обложка книги](/books/388056/vitalij-gluchenko-rozhdenie-chelovechestva-nachalo-chelovecheskoj-istorii-kak-predmet-socialno-filosofskogo-issledovaniya-litres-cover.webp)



![Людвиг Витгенштейн - Философские исследования [litres]](/books/386204/lyudvig-vitgenshtejn-filosofskie-issledovaniya-litre-thumb.webp)