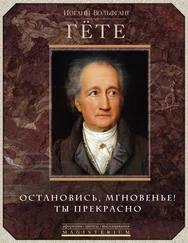Вот почему никогда не будет излишним воздерживаться от чрезмерно поспешных выводов из экспериментов: как раз при переходе от опыта к суждению, от знания к применению человека, словно в узком проходе, подстерегают все его враги: воображение, нетерпеливость, забегание вперед, самодовольство, косность, формализм мышления, предвзятое мнение, лень, легкомыслие, изменчивость, и как там ни зовется вся эта толпа со своей свитой, – все лежат здесь в засаде и незаметно нападают как на действующего практика, так и на спокойного, с виду гарантированного от всех страстей наблюдателя.
Чтобы предостеречь от этой опасности, которая больше и ближе, чем думают, я хочу выставить здесь своего рода парадокс, который может пробудить более живое внимание: я решаюсь утверждать, что один эксперимент и даже несколько связанных между собою экспериментов ничего не доказывают, что нет ничего опаснее, как желание доказать какое-либо положение непосредственно экспериментами, и что величайшие заблуждения возникли именно благодаря непониманию опасности и недостаточности этого метода. Я должен высказаться яснее, чтобы не быть заподозренным в желании просто сказать что-то особенное [81] Гёте опять имеет в виду Ньютона и его experirnentum crucis (решающий эксперимент) с призмами. (Примеч. В. Л.)
.
Всякое показание опыта, которое мы получаем, всякий эксперимент, посредством которого мы его повторяем, есть, собственно, изолированная часть нашего знания; частым повторением мы доводим это изолированное знание до уверенности. Мы можем ознакомиться с двумя показаниями опыта в одной области, они могут быть близкородственными, но еще больше казаться такими, и обыкновенно мы бываем склонны преувеличивать это родство. Это свойственно человеческой природе; история человеческого ума дает нам тысячу примеров, и сам я заметил на себе, что часто делаю эту ошибку.
Ошибка эта стоит в близком родстве с другой, из которой она большей частью и вытекает. Дело в том, что человек наслаждается больше представлением, чем самой вещью, или, лучше сказать, человек наслаждается какой-либо вещью, лишь поскольку он представляет ее себе; она должна подходить к его умственному складу; и как бы высоко ни возносилось его воззрение над обыденным, как бы оно ни очищалось, все же оно остается обыкновенно только попыткой привести много предметов в известное понятное соотношение, которого у них, строго говоря, нет; отсюда склонность к гипотезам, теориям, терминологиям и системам, которую мы не можем порицать, так как она необходимо проистекает из организации нашего существа.
Если, с одной стороны, всякое показание опыта, всякий эксперимент по своей природе требует изолированного рассмотрения, а, с другой стороны, человеческий ум с колоссальной силой стремится соединить все, что находится вне его и с чем он знакомится, то легко увидеть опасность, которой подвергаешься, когда с предвзятой идеей хочешь связать отдельное показание опыта или доказать отдельными экспериментами какое-либо отношение, не вполне чувственное, но уже высказанное оформляющей силой ума.
Из таких усилий возникают большей частью теории и системы, которые делают честь остроумию их творцов и – в известном смысле – способствуют прогрессу человеческого знания, но, если они находят чрезмерный успех и удерживаются дольше, чем нужно, начинают снова тормозить этот прогресс и вредить ему.
Можно заметить, что хороший ум прилагает тем больше искусства, чем меньше имеется в его распоряжении данных; что он, как бы для того чтобы показать свою власть, даже из наличных данных выбирает только немногих фаворитов, которые льстят ему; что остальных он умеет расположить так, чтобы они явно ему не противоречили, враждебных же умеет так запутать, опутать и устранить, что целое действительно приобретает теперь подобие уже не свободно действующей республики, а деспотического двора.
У человека, обладающего такими заслугами, не может быть недостатка в почитателях и учениках, которые подвергают подобную ткань историческому изучению, восхищаются ею и, поскольку это возможно, усваивают способ представления своего учителя. Часто подобное учение приобретает такую власть, что человека, осмелившегося усомниться в нем, сочли бы дерзким и безрассудным. Лишь позднейшие века могли посягнуть на такую святыню, снова вернуть предмет рассмотрения обыденному человеческому уму, попроще отнестись к вопросу и повторить об основателе секты то, что сказал какой-то остряк об одном великом натуралисте: он был бы великим человеком, если бы поменьше изобретал.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
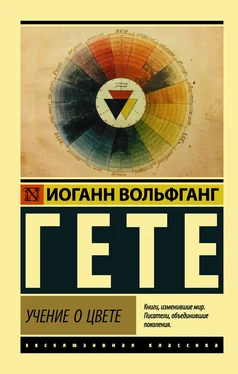
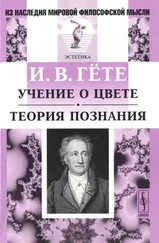


![Иоганн Гёте - Итальянское путешествие [litres]](/books/398657/iogann-gete-italyanskoe-puteshestvie-litres-thumb.webp)