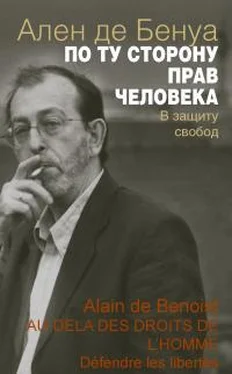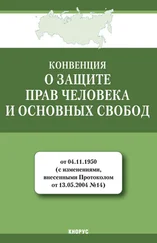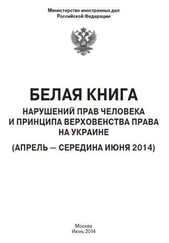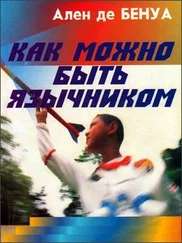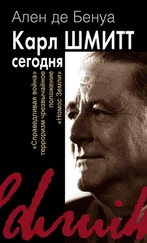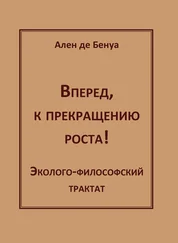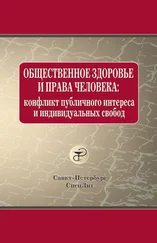Первые права, следовательно, являются, прежде всего, правами–свободами. Равенство — не более, чем условие, необходимое для их осуществления. Объясняется этот приоритет свободы просто. Свобода, как выражение чистого бытия–для–себя и воплощение уникальности индивида, определяет природу человека независимо от любой социальной связи. Равенство, конечно, является коррелятом заданной таким образом свободы (если каждый — это свободное и абсолютное желание быть собой, все тождественны друг другу), однако, в отличие от свободы, чтобы у равенства был смысл, ему требуется некий минимум социальной жизни. В некоторых отношениях, как пишет Андре Клэр, оно выполняет «функцию определения и трансформации свободы; посредством этого определения формируется социальная связь» [11] André Clair, Droit, communauté et humanité, Cerf, Paris 2000, p. 62.
.
Поскольку признается, что существование людей предшествует их сосуществованию, необходимо объяснить переход от простого множества индивидов к факту социальности. Традиционный ответ — это договор или рынок. В отличие от союза в библейском смысле, общественный договор — это договор, заключенный равными партнерами. Как и рынок, он проистекает из подсчета интересов. По Локку, цель всякого политического союза является экономической: «великой и главной целью объединения людей в государства и передачи ими себя под власть правительства является сохранение их собственности» [12] Локк Дж. Два трактата о правлении. Книга вторая // Соч.: В 3 т. М.: Мысль, 1993. Т. 3. С. 334.
. Права, которыми обладают уже по природе, понимаются, однако, по образцу права собственности. Понятно, что в XVII-XVIII веках теория прав стала главным инструментом, используемым буржуазией, чтобы получить политическую роль, соответствующую ее экономическому весу.
Но в то же время политика теряет свой статус причины и становится следствием. Поскольку факт социальности теперь признается не более, чем следствием договора, заключенного частными лицами, власть представляется уже не организатором, а вторичным продуктом общества, надстройкой, которая всегда несет в себе угрозу членам этого общества. (Эта функция надстройки, заметная у всех либеральных авторов, обнаружится и у Маркса.) С другой стороны, политическая связь полностью переопределяется на основе новой юридической нормы, соответствующей субъективным правам индивида. Наконец, гражданское общество отождествляется с частной сферой, то есть с той далекой от политической жизни частью общества, в которой, как считалось, частные лица могут действовать свободно. «Философская ставка современного естественного права, — пишет Марсель Гоше, — […] будет заключаться в переопределении политики с прицелом на субъекта, причем в двойном отношении — на политический элемент, то есть гражданина, понимаемого в качестве субъекта индивидуального права, но также на политическую совокупность, политическое сообщество, понимаемое в качестве коллективного политического субъекта» [13] Marcel Gauchet, Les tâches de la philosophie politique // La Revue du MAUSS, Paris, ler sem. 2002, p. 282.
.
Итак, свершилась тройственная революция. С одной стороны, понятие воли заменило собой понятие порядка. С другой, в центр сместился индивид, а право стало атрибутом. Наконец, право было отождествлено со «справедливостью», которая отныне окрашивается в основном в моральные тона. Вместе с Гоббсом и его последователями жизнь в обществе стала пониматься в горизонте пользы, которую каждый находит в том мире, где природа как единое целое более не имеет никакой внутренней ценности, никакого значения или целесообразности. Право теперь — это частная собственность, внутреннее качество субъекта, моральная способность, которая дает разрешение и позволяет действовать. Разум понимается, по существу, как простая способность к расчету. Юридическая сфера сводится теперь не к справедливому решению (dikaion, id quod bonum est), а к совокупности санкционированных норм и форм поведения. Государство и сам закон теперь не более, чем инструменты, которые должны гарантировать индивидуальные права и служить осуществлению тех целей, которые ставят себе стороны договора.
Как пишет Андре Клэр, «Эта трансформация понятия права, которая позволила применить его к человеку, была осуществлена на заре Нового времени лишь благодаря насильственному акту, одновременно коварному и мощному; право стали понимать как качество, наличествующее по самой своей природе в каждом человеке; теперь оно понимается уже не в качестве системы распределения и дележа долей между членами одного общества (как оно первоначально определялось в распределительной справедливости), а как способность каждого индивида абсолютно утверждать себя перед другим, способность, которая должна быть осуществлена, что полностью переворачивает смысл права. Следовательно, любая философия прав человека — это философия субъективности, которая, конечно, считается всеобщей, но первоначально признается в качестве индивидуальной и уникальной» [14] André Claire, Op. cit., pp. 63-64.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу