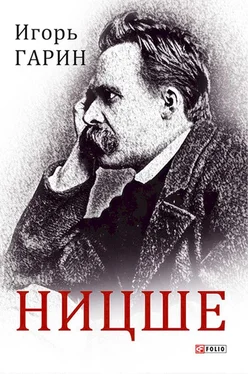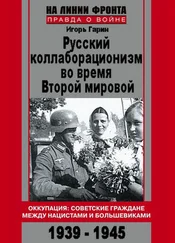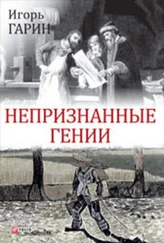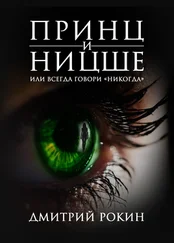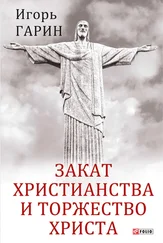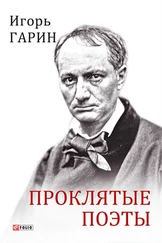Для самого Луначарского имя Ницше стало символом разрушения буржуазного общества, а сверхчеловек — знаменем обновленного человечества, стандартом борца, сражающегося за «светлое будущее».
Объединив в некоей «триаде» Маркса, Ницше и Горького, Луначарский увидел в этом «явлении» знаменье времени: «…Борьба угнетенного класса за свои права, за жизнь, достойную человека, протест, наступление, натиск, возникающий из недр самого класса, во имя его требований — вот дух марксизма; провозглашение права на полное самоопределение, гордый вызов обществу и его устоям, подчеркивание прав личности на совершенствование и радость жизни, творчества» — вот то, что привлекает нас в Ницше, и ту же требовательность от жизни, тот же протестующий дух видим мы у Горького. «…Нам не интересны страдальцы, нам интересны протестанты… Как далеко ни разошлись материалисты и идеалисты молодого поколения, но честь индивидуума, его право на счастье, но протестующий дух соединяет их теперь», — писал он в 1903 году. «Ницше протестующий», «Ницше-жизнестроитель», «Ницше-революционер» — таким виделся он Луначарскому. Ницше, понятый подобным образом, как нельзя лучше подходил к «революционному мировоззрению», как нельзя лучше вписывался в ту картину мира, где нужно было как-то обосновать совершенную неуместность человеколюбия и неизбежность жестокости — ведь великие свершения требуют жертв, — где царит радость и веселие от головокружительных побед, где побеждают «достойные», а все старое, слабое «тает и сгорает в лучах огненного ярилы», как объяснял Луначарский несколько лет спустя в статье, написанной по поводу «Дачников» Горького. Именно здесь, упрекая Горького за излишнюю «жалостливость» к своим персонажам, автор изложил свою концепцию «человека» и, переведя поэтические символы Ницше на язык революции, сформулировал свою этику, основу которой составила «жестокость»: «Побольше, побольше жестокости нужно людям завтрашнего дня» — таков конечный вывод этой «новой» революционной морали.
Хотя М. Горькому — уже в советские времена — приходилось неоднократно открещиваться от обвинений в ницшеанстве, ему так и не удалось освободиться от ницшевских интонаций и прямых реминисценций типа: «Задача литературы: восстающего поддержи — чем энергичнее поддержите его, тем скорее окончательно свалится падающий». М. Меньшиков в статье «Красивый цинизм» без обиняков констатировал:
С чудесной стремительностью, совсем по-русски, нижегородский беллетрист «малярного цеха» принял евангелие «базельского мудреца» и… несет его как «новое слово».
Идеи Ницше, по мнению А. Эткинда, не были рассчитаны на практическую реализацию, но в русской утопии, черпавшей экстремизм из любых источников, они приобретали конкретный характер.
То, что для Ницше и большинства его европейских читателей было полетом духа и изысканной метафорой, которую лишь варвар может принимать буквально, в России стало базой для социальной практики.
Поскольку новый человек, поправший отживший здравый смысл, должен был сотворен именно в России, надо ли удивляться, что «человек — мост к сверхчеловеку» из метафоры стал постулатом иных теоретиков большевизма. Не очень чувствительные к логическим неувязкам, наши диалектики после партийных погромов с тем же чистосердечием называли сверхчеловека предтечей гитлеровских выродков. Пользуясь диалектическими вывертами, нетрудно осуществить синтез: человек → сверхчеловек → (коммунистический человек) → фашист. Это теория, практику вы знаете сами…
После бурного всплеска «русского ницшеанства» в начале XX века интерес к Ницше так же быстро угас. Место Ницше заняли Штайнер (антропософия) и Фрейд (психоанализ). После 1912 года имя Ницше почти исчезло в русской литературе.
Последней книгой о Ницше стал путаный и поверхностный опус Вересаева, в котором Аполлону приписаны черты Диониса и наоборот, где Ницше «тоскует по гармонии» и Толстой — словами Наташи Ростовой — проповедует ницшеанство. Ницше здесь изображен, как Достоевский, проклявший свое нутро, или, наоборот, как Бюхнер, это нутро воспевший…
Что прежде всего и в конце концов требует от себя философ? Преодолеть в себе самом время, стать безвременным — вот с чем ему приходится выдерживать самую жестокую борьбу, которая все-таки делает его сыном своего времени.
Ф. Ницше
Воплощенная беспредельность мифического — Время.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу