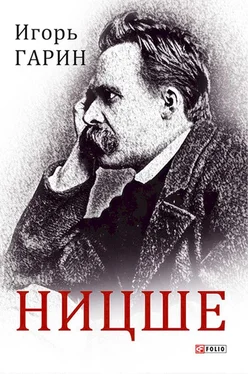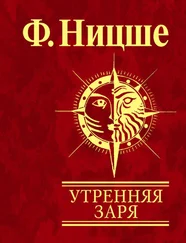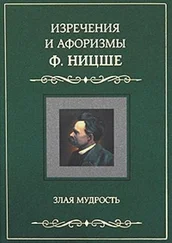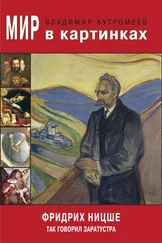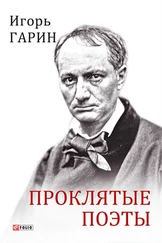Прочитав «Заратустру», В. Соловьев резко изменил отношение к Ницше. Не восприняв мифологичность этого образа, он противопоставил первого сверхчеловека (Иисуса) — «словесным упражнениям» филолога, «не испытавшего по-настоящему никакой жизненной драмы».
…Эта истина о высшем, сверхчеловеческом начале в нас, о нашем сродстве с абсолютным и тяготении к нему, была уже не нова, когда апостолу Павлу пришлось напоминать ее афинянам (Деян. ап., XVII). Теперь Ницше возвестил ее как великое новое открытие. Спасибо и на этом. Но вот беда: апостол Павел напомнил афинянам о высшем достоинстве и значении человека только для того, чтобы сейчас же указать на действительное осуществление этого высшего в действительном праведнике, воскресшем из мертвых; говоря о сверхчеловеке, он называет Его, тогда как новейшему проповеднику сверхчеловека не на что указать в действительности и некого назвать.
Ницшеанский человек — просто декадент, подменивший истину словесностью, демагог, совращающий полуобразованную толпу красотой пустых звуков. Удивительно, что эти слова произносит мыслитель, понимавший философию как требование «истину из безразличного понятия превратить в живой замысел», мыслитель, восставший против «однодумов».
Потрясенный «кощунствами» Заратустры, само имя которого вызвало отвращение великого философа, Соловьев безосновательно уличает Ницше в притязании стать основателем религии. Болезнь и сумасшествие Ницше, считает он — расплата за богоборчество, искупительная жертва честного человека, который «устыдился и ужаснулся своего подлога истины, когда увидал его пустоту и бесплодность».
Самое парадоксальное во взаимоисключающих соловьевских оценках сверхчеловека Ницше — это их одновременность (обе даны незадолго до смерти и фактически одна исключает другую). Свидетельство ли это настроения минуты, беспамятства или незначительности феномена? Так или иначе, Ницше не стал для Соловьева поворотной точкой культуры, только одаренным стилистом, опасным совратителем юношества, симптомом времени словесности, подменяющей истинность.
Я полностью солидарен с А. Белым, что В. Соловьев проглядел сущность Ницше, не разглядел за маской, за «Ницше в цилиндре» — богостроителя, учителя жизни, мистика, узревшего в туманной дали призрак Нового Человека, Личности, спустившегося с небес Христа, уже не зовущего за собой…
Просто удивительно, что такой тонкий и чувствительный человек, как В. Соловьев, уличает Ницше в жизненном спокойствии, «кабинетности», книжности, филологичности. Г. Рачинский в «Трагедии Ницше» привел, мне представляется, самую точную оценку «сомнительной характеристике», данной Ницше Соловьевым в статье «Словесность или истина», вошедшей затем в «Три разговора»:
В ней, рядом с поразительно сжатой и верной оценкой скрытого смысла моральных взглядов Ницше в период создания им типа Заратустры, встречаем ироническую характеристику его как педанта-профессора, даровитого, но «исключительно» кабинетного ученого — «сверхфилолога». Основываясь на том, что Ницше «не испытал по-настоящему (?) никакой жизненной драмы», Соловьев утверждает, что он о «земной человеческой природе помимо книг имел лишь очень одностороннее и элементарное познание»; смеется над тем, что он пишет «Заратустра», а не «Зороастр» (а сам Соловьев писал же не «Магомет», а «Мухаммед»); и переводит слова Ницше «Ich lehre euch den Übermenschen!» — «Я намерен преподавать сверхчеловека», объясняя, что для Ницше «сверхчеловек есть лишь предмет университетского преподавания — вновь учреждаемая кафедра (курсив подлинника) на филологическом факультете». И все это говорится о человеке, вся жизнь которого, за вычетом пяти-шести лет молодости, была одно сплошное физическое страдание и одна раздирающая душевная драма, который провел на кафедре всего что-то около пяти лет, всю остальную жизнь путешествовал и жил в общении и дружбе с самыми разнообразными и, по большей части, весьма замечательными людьми, был поэтом и композитором, отличался редкой наблюдательностью и писал книги о сверхчеловеке, похожие на что хотите, только не на курс лекций с кафедры филологического факультета. Совершенно верно замечая, что «для филолога быть основателем религии так же неестественно, как для титулярного советника быть королем испанским», и что «самому гениальному филологу невозможно основать хотя бы самую скверную религиозную секту», Соловьев как будто не замечает, что ницшеанство если на что похоже, так уж скорее на «скверную секту», а с университетских кафедр, насколько мне известно, еще никогда не преподавалось. Я понимаю всю безграничную антипатию Соловьева к Ницше; но здесь факты говорят сами за себя. Опасно и неосторожно презирать врага, не отдавая всего должного его уму и духовной силе. Когда Соловьев в своих критических замечаниях (между прочим, например, в «Мире искусства») смеется над теми, кого он называет в другом месте «трепещущими и преклоняющими колена перед именем Заратустры психопатическими декадентами и декадентками в Германии и России», то этому можно только посочувствовать: не рассуждать же, в самом деле, с такими господами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу