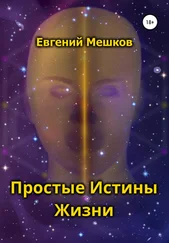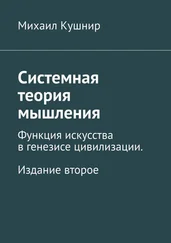Автору вдвойне «повезло» в его отношениях с проблемой живого/неживого. Во-первых, в разные периоды времени его профессиональной деятельности ему приходилось погружаться в исследование то одного, то другого (то неживого, то живого), то одновременно и того, и другого и сопоставлять их друг с другом. Во-вторых, ему очень повезло потому, что в определенные периоды своей профессиональной деятельности жизнь свела его с двумя мыслителями – академиком Петром Кузьмичом Анохиным и заведующим кафедрой прикладной и структурной лингвистики МГУ, доктором филологических наук, известным лингвистом Владимиром Андреевичем Звегинцевым, автором фундаментальных трудов по лингвистике. Автор сознательно использует слово « мыслители», поскольку отличительной чертой этих ученых было глубокое и, главное нестандартное, мышление – способность видения проблемы не со «стереотипной» стороны , как ее видело и продолжает видеть подавляющее большинство специалистов, а с другой – позволяющей открывать в ней новые, совершенно неожиданные стороны.
И если в решении «проблемы жизни» роль П. К. Анохина – крупнейшего российского физиолога, вполне понятна (хотя кто-то соглашается с его взглядами, а кто-то нет), то роль В. А. Звегинцева – видного российского лингвиста 60-х – 90-х годов прошлого столетия, в контексте понимания и изучения живого на первый взгляд не очень понятна. Но именно Звегинцев в своих глубоких теоретических работах по-настоящему открыл для автора существование еще одной проблемы – проблемы языка – тесно связанной с первой и, как оказалось, важнейшей в исследовании Мироздания, хотя ему это стало ясно только после многих лет исследований. Эту проблему невозможно обойти, поскольку мы мыслим на языке, общаемся на языкеи воспринимаем мир через призму языка. В конце концов, оказалось, что исследования в области языка – это важнейшая составляющая исследований жизни, такая же, как исследования в тех направлениях науки, которые мы привыкли напрямую соотносить с жизнью: физиологии, психологии, общественными отношениями между людьми и т. п.
Своими фундаментальными работами в области лингвистики Владимир Андреевич буквально перевернул взгляды автора на суть понятия «язык» и определяющее прогрессивно/регрессивноевлияние языка на исследование проблемы живого/неживого. Этого влияния невозможно избежать при размышлениях над основной темой работы, и особенно при донесении этих размышлений до читателя. Более того, именно законы языка определяют наше, человеческое, видение жизнии, конечно, мышление. Трудно переоценить (но очень легко недооценить) силу и глубину слов известного лингвиста В. Гумбольдта: « Тем же самым актом, посредством которого он из себя создает язык, человек отдает себя в его власть». И нигде эта властьне проявляется так сильно, как при исследовании проблемы жизни, вследствие ее глубины и многоаспектности. И, самое главное, вследствие того, что человек, мысля и общаясь на языке, сам является частью жизни, которую он исследует, а не смотрит на нее со стороны , как это требуют как законы исследования языка «вообще», так и законы для «незатуманенности» и объективности взгляда, требующих отстранённости исследователя от объекта исследования.
Для автора все началось с изучения «неживого»: автор получил классическое инженерное образование, закончив в 1954 году МВТУ им. Баумана – по сути техническую академию того времени, готовившую, как говорилось во всех проспектах, инженеров широкого профиля. «Технические университеты» продолжились и далее, поскольку после окончания кафедры математических машин, созданной в МВТУ в последние годы его студенческой жизни, автор начал свою практическую деятельность в Специальном Конструкторском Бюро, ведущим разработки первой отечественной вычислительной машины промышленного назначения, и принял участие (конечно, минимальное!) в завершении ее разработок.
Таким образом, на самой ранней стадии своей профессиональной деятельности он соприкоснулся с первыми (но такими важными для дальнейшего!) попытками человека распространения свойств «живого» (т.е. мышления) на «неживое». Естественно, что это были самые примитивные свойства – решение очень простых и понятных (понятных – сегодня!) по содержанию – вычислительных – задач, наиболее легко поддающихся формализации. Однако именно это подготовило его в дальнейшем к постановке уже далеко не тривиальных вопросов, таких, как «Что такое мышление?», «Может ли машина мыслить?», «Чем «мыслящее искусственное» отличается от «мыслящего естественного»? и, в конце концов, «чем вообще так называемый «робот» отличается (или может быть, не отличается??) от человека?». И только через много-много лет исследований он понял главное: мышление является не только свойством живого, что понятно, но оно является свойством всегоживого, а также условием жизнии признаком живого. Жизнь без мышления невозможна. Но тогда эти вопросы не очень интересовали автора: он видел перед собой только интереснейшие технические задачи и принимал посильное участие в их решении.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
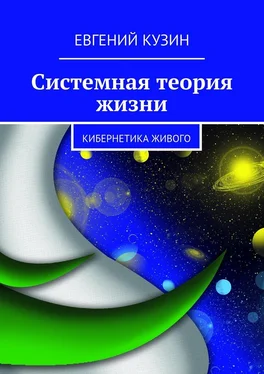


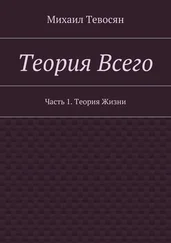
![Евгений Иванов - Отпуск с риском для жизни [СИ]](/books/413331/evgenij-ivanov-otpusk-s-riskom-dlya-zhizni-si-thumb.webp)