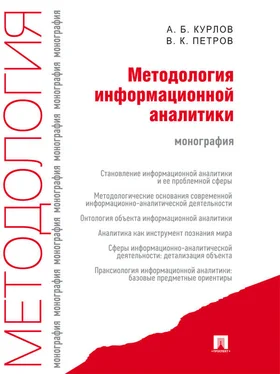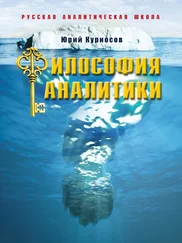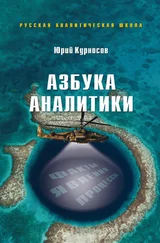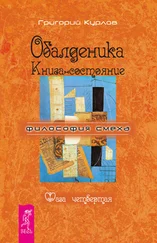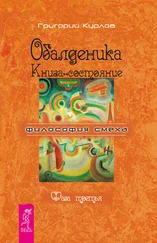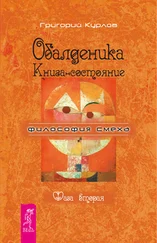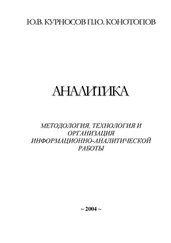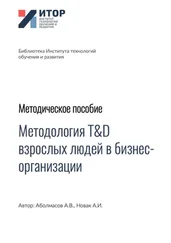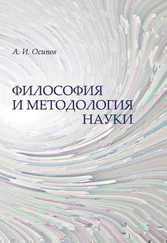Развивал эту эпистемологическую линию в тот период времени и известный таджикский мыслитель Ибн Сина (Авиценна) (980—1037). В работе «Логика» он также стремился обобщить аристотелевскую силлогистику, установить зависимость между категорическими и условными суждениями.
Принципиально значимый для становления аналитики методический шаг к новому знанию был сделан на заре Возрождения испанским философом и богословом Раймундом Луллием (1233–1315). Из средневековых «реалистов» он занимал самую последовательную позицию в отождествлении порядка действительности с порядком логическим, доведя ее до панлогизма, тем самым опередив Гегеля на пять веков.
Луллий предпринял попытку изучения проблем логического следования путем моделирования операций с использованием им же разработанной «системы концентрических кругов». Главную задачу он видел в том, чтобы научить людей выводить новые сочетания терминов на основе подобранных таблиц. Его заслуга состоит в том, что он сумел предвосхитить использование фасетно-блочного подхода в информационном анализе, впервые сделав акцент на поиск не просто выводного, а именно нового инструментального знания о мире.
Критики Луллия обвиняли его в механистичности философских суждений, и на долгие годы воззрения философа были незаслуженно преданы забвению. Только в XX в. его идеи об использовании трех кодировок (текст-картинка-схема) были взяты за основу разработчиками теории «уровней интеллекта», из которых наиболее близкими к схемам Луллия являются «Уровни бытия» («Спиральная динамика») Клера Грейвза 27и «Теория уровней абстрактного интеллекта» (ТУАИ) Якова Фельдмана 28. Идеи Луллия просматриваются и в работах Генриха Альтшуллера – основателя «Теории решения изобретательских задач» (ТРИЗ) 29.
Значительно позднее подход Луллия будет использован Исааком Ньютоном при создании «предсказательных» таблиц, а Дмитрием Менделеевым при открытии Периодической таблицы. Современные аналитики станут широко использовать сопоставительные таблицы как одно из основных профессиональных средств.
Ревизия «предметных» порядков мысли, порожденной аристотелевской энтелехией 30, производилась одновременно с нескольких сторон благодаря усилиям мыслителей Нового времени, которые осуществили движение в сторону ее (мысли) распредмечивания, тем самым заложив основания символизма.
Так, эпистемологический урок Коперника (1473–1543) заключался не только в демонстрации того, что знание не есть непосредственная копия наблюдаемых данных в «живом созерцании» предметов и событий. Он показал также невозможность идентификации аппарата науки с объектами материального мира, ибо теоретические абстракции (модели) не могут быть изоморфны по отношению к каким бы то ни было естественным референтам.
Созданный Коперником прецедент породил убеждение в том, что наука невыводима из языка визуальных протоколов, она формируется не вследствие обобщения индуктивных опытных данных, а из построения теории. Этот посыл имел чрезвычайно важное гносеологическое значение, по сути, оформляя методологию процесса выработки стратегий аналитических исследований.
Благодаря такой «распредмеченой интенции», обнаружилось, во-первых, что теоретические структуры, умопостигаемая реальность не конструируется из опытных данных: знание не вытекает из опыта – в его создании используются свободно творимые (через процедуры анализа) понятия, пригодность которых проверяется опытом а posteriori. Во-вторых, выявилось, что удаленность аналитических практик от непосредственного опыта является предпосылкой их автономного существования в рамках исследования. Накопление, расширение знаний здесь протекает как порождающий процесс, a priori превосходящий границы наблюдаемого 31. Энтелехией здесь выступает сама гипотетика ожиданий, основанных на результатах априорного анализа, а не «внешнего оправдания». При ином положении дел вряд ли возможно будет определить какие-либо реперы будущего и упреждающе управлять его проблемами. В этом случае снимаются главные функции аналитики – прогностическая и управленческая, превращая ее лишь в средство регистрации и систематизации фактического опыта, который с очевидностью привязан к определенным условиям времени и места, и, потому имеет очень ограниченный инструментальный потенциал.
Галилей (1564–1642) усилил заложенную Коперником тенденцию разведения образов и объектов, содержательного строения знаков (категориальный язык анализа) и их связи с реальностью. Он выработал особую аналитическую тактику, предписывавшую проводить изучение не эмпирического, а как бы идеального, теоретического движения, описываемого аппаратом математики. Эта тактика буквально революционизировала не только сферу аналитики, но и гносеологии, показав инструментальную продуктивность метода идеального моделирования действительности на основе ее логического предварения.
Читать дальше