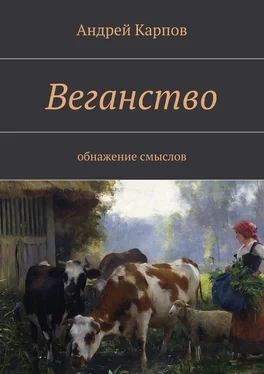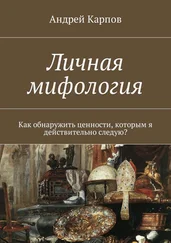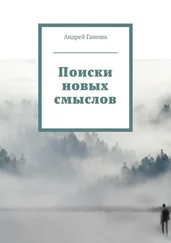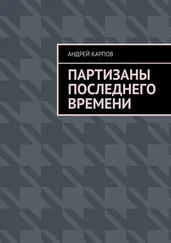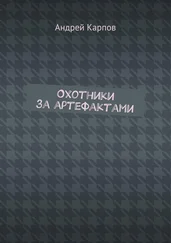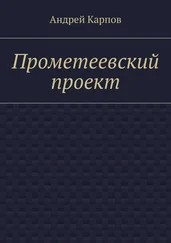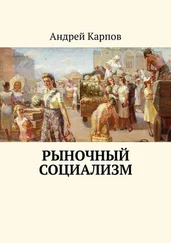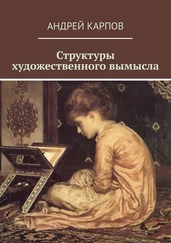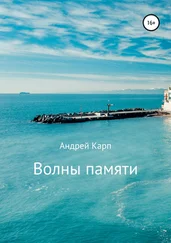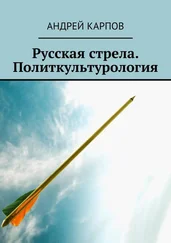Интенсивное животноводство действительно обращается с живыми существами как с производственными механизмами. Применяемые технологии безжалостны в прямом смысле этого слова: животных в крупных агропроизводственных комплексах никто не жалеет, отношение к ним определяется не жалостью, а чистой прагматикой. Если животное болеет, его лечат, но не потому, что ему больно, а чтобы не пропали вложенные в него деньги. Если же более выгодно заменить заболевшее животное новым, его не будут лечить, а забьют или усыпят.
Узнав об этой неприятной изнанке животноводства, чуткие и романтические натуры испытывают эмоциональный шок и становятся веганами. Они решают не принимать участия в причинении страданий животным, пусть даже весьма опосредованно – в качестве потребителей продукции животного происхождения. Последовательные веганы отказываются и от мёда, и от изделий из шёлка, включая насекомых в число тех существ, которых следует избавить от эксплуатации человеком.
3. Освобождение или дедоместикация
Итак, эксплуатация животных недопустима. Как, в принципе, недопустима всякая эксплуатация.
Идея бороться с эксплуатацией животных возникла не сама по себе, она – лишь результат расширенного применения идеи о неприемлемости эксплуатации человека человеком. Прежде чем появилась возможность говорить об эксплуатации в отношении животных, необходимо было составить само понятие эксплуатации. Это понятие было сформулировано социальной наукой и стало одним из ключевых элементов левой идеологии. 2 2 История негативного восприятия слова эксплуатация (от французского exploitation – «использование, извлечение выгоды») восходит к экономической теории Карла Маркса.
В этой перспективе защита прав животных оказывается своеобразным навершием мощной волны социальной борьбы. Патетика веганских высказываний в значительной степени восходит к традициям левых движений, привычно употребляющих такие обороты как борьба за права или освобождение. Эти формулировки активно заимствуются веганством. Так, заметная в истории веганства книга австралийского философа Питера Сингера (Peter Singer) называется «Освобождение животных» (Animal Liberation).
Пока речь идёт об освобождении людей всё кажется понятным. Вот человек сидел в тюрьме или, – как принято говорить о тех, кому сочувствуют, – в застенках, его выпустили, и он стал свободен. Или раб, находившийся в полной зависимости от своего господина, получает свободу, – теперь он принадлежит самому себе и волен жить, как ему заблагорассудится. Или крестьянин освобождается от крепостной зависимости, и больше не обязан работать на помещика бесплатно.
Но даже с человеческим освобождением не всегда всё так просто. В русском канцелярите – языке официальных документов – есть такой устоявшийся оборот: «освободить от занимаемой должности». С одной стороны, это действительно освобождение. Человек был отягощён необходимостью определённым образом трудиться. Возможно, ему было нужно приходить в конкретное место к определённому часу, совершать действия в соответствии с производственной необходимостью, а вовсе не со своими желаниями, выслушивать и принимать к исполнению распоряжения начальства. Можно допустить, что человек устал от подобного состояния, и вот его освобождают, и он чувствует эту свободу: теперь он предоставлен самому себе. Но, с другой стороны, весьма вероятно, что потерянная должность была основным или даже единственным источником его доходов, и теперь, хотя и получив свободу, он лишился средств для дальнейшего существования. Является ли подобное освобождение благом?
Ценность свободы вовсе не является абсолютной. «Человек свободен от обязательств» – звучит, вроде бы, хорошо. Но это означает, что никто от него ничего не ждёт, и такой человек, в сущности, никому не нужен, а это уже плохо. Чего стоит обретённая свобода, может сказать лишь тот, кто её получил. Если освобождённый – человек, мы можем его об этом спросить. Но с животными так не получится. Животные не обладают самосознанием и не могут дать оценку изменению своего состояния. Они не в состоянии поведать, что для них исконная или новообретённая свобода – дар или проклятие. Мы вынуждены оценивать ситуацию за них, перенося на животный мир чисто человеческие представления.
Бернард Шоу – известный британский драматург – был убеждённым вегетарианцем. Когда он довольно серьёзно заболел (на фоне истощения у него развился некроз кости), близкие пытались побудить его оставить вегетарианскую диету и поесть мяса. Но Шоу заявил, что « лучше смерть, чем каннибализм ». Развивая этот тезис, он пишет: « В моём завещании содержатся указания насчёт моей похоронной процессии, в которой не будет похоронных экипажей, но зато будут шествовать стада быков, баранов, свиней, всякой домашней птицы, а также передвижные аквариумы с живыми рыбами, причём у всех сопровождающих гроб будут повязаны белые шарфы в память о человеке, который предпочёл умереть, но не есть себе подобных ». 3 3 Цитируется по: Эмрис Хьюз Бернард Шоу М., «Молодая гвардия», 1966. Стр. 91
Впрочем, тогда он поправился, а когда всё же скончался (это произошло более чем 50 лет спустя), во вскрытом завещании оказался совсем другой текст. Так что мы не знаем, была ли описанная им постановка собственных похорон хорошей шуткой, или планировалась всерьёз. Во всяком случае, Шоу использовал хорошо понятную всем символику: белые шарфы (повязки) – знак несогласия с насилием, шествие за гробом – выражение уважения и признательности усопшему. Общая картина должна читаться так: животные благодарят Шоу за то, что он их не съел. Зрелище могло получиться весьма впечатляющим. « Если не считать процессии, направляющей в Ноев ковчег, это будет самая замечательная процессия, какую доводилось видеть людям », – заключает Шоу своё описание.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу