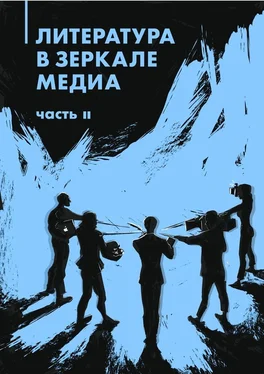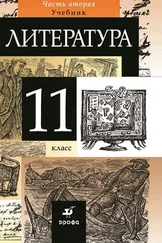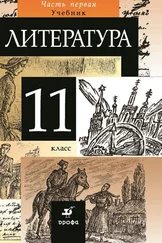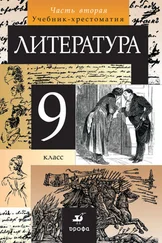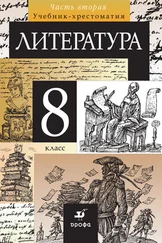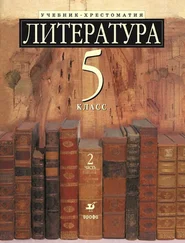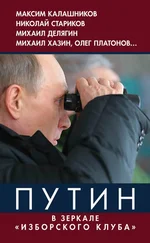Мечты о «невозможном мире» ярко воплощались в литературных описаниях неслыханного, не бывавшего. Так, в романе «Мы» Евгения Замятина (1920) обратим внимание на не только известные сюжетные коллизии и невозмутимо спокойные, зловещие картины «общества будущего», но и авторские представления о соответствующих им звучаниях – нередко исходящих из радиоприбора или громкоговорителя 36 36 Напомним, что в 1927 году Е. Замятин участвовал в создании либретто фантасмагорической оперы Д. Шостаковича «Нос» (им написана сцена пробуждения Ковалева в первом акте).
. Они отображают незнаемые перспективы сферы чувств, пугающую трансформацию соотношений рацио и интуиции в повседневности, как и того, что трактуется как искусство.
«Мы» предвещает очень многое в отечественной философии и идеологии. Подобное, казалось бы, «носилось в воздухе» с первых лет революции, развивая идеи русского космизма и представления о расширении возможностей людского рода. Так, происходящее в романе Замятина, являет собой прозрения в художественной форме антиутопии тех задач, которые ставил перед будущим, задолго до нынешнего «трансгуманизма», Лев Троцкий: «Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной» 37 37 Дополним эту цитату тем, как индивид должен будет, по Л. Троцкому, «…гармонизовать себя самого. Он поставит себе задачей ввести в движение своих собственных органов при труде, при ходьбе, при игре, высшую отчетливость, целесообразность, экономию и тем самым красоту. Он захочет овладеть полубессознательными процессами в собственном организме: дыханием, кровообращением, пищеварением, оплодотворением и, в необходимых пределах, подчинит их контролю разума и воли. (…) человеческий род, застывший homo sapiens, снова поступит в радикальную переработку и станет под собственными пальцами объектом сложнейших методов искусственного отбора и психофизической тренировки» // Л. Троцкий. Литература и революция. Птг., 1923. С. 80 // URL: http://mreadz.com/new/index.php?id=36895&pages=80.
.
За несколько лет до открытия советского радиовещания в тексте Замятина возникает важнейший кентаврический (некая смесь человека с машиной) персонаж – киберг. Это некто «фонолектор», в котором можно увидеть также и прообраз радио-пропагандистов, в том числе в передачах о музыке. Сама же музыка – показательная часть всего искусства будущего – предстает как победа рацио над «вдохновением», разума над чувствами, совестью, верой. А главное, фонолектор описывает «музыкометр», позволяющий нелюдям-«номерам», с помощью мнимо художественных посланий напрямую впитывать директивные указания. Фонолектор, конечно, олицетворяет имперсональные «голоса сверху». Вот он повествует о:
«…нашей музыке, математической композиции (математик – причина, музыка – следствие)», описывая механическую модель ранее спонтанного творчества, «недавно изобретенный музыкометр»:
«…Просто вращая вот эту ручку, любой из вас производит до трех сонат в час», в отличие от прежних «припадков вдохновения – неизвестной формы эпилепсии» 38 38 Е. И. Замятин. Мы. Роман. М.: Художественная литература, 1989. С. 18—19.
.
Потому «теперешняя музыка» в мире замятинской антиутопии будущего общества – это «живительные потоки, лившиеся из громкоговорителей» 39 39 Там же. С. 18.
, – …где «живительным» является гальванизирущий роботоподобных механический марш, созвучный послеобеденной коллективной прогулке безличностных «номеров»:
«Как всегда, Музыкальный Завод всеми своими трубами пел Марш Единого Государства»», когда «мерными рядами, по четыре, восторженно отбивая такт, шли номера – сотни, тысячи номеров…» 40 40 Там же, С. 10—11.
.
Или:
«хрустальные хроматические ступени сходящихся и расходящихся бесконечных рядов – и суммирующие аккорды формул Тэйлора, Маклорена; целотонные, квадратногрузные ходы Пифагоровых штанов; грустные мелодии затухающе-колебательного движения; переменяющиеся фраунгоферовыми линиями пауз яркие такты – спектральный анализ планет… Какое величие! Какая незыблемая закономерность! И как жалка своевольная, ничем – кроме диких фантазий – не ограниченная музыка древних…» 41 41 Там же, С. 19—20.
.
Тут словно смыкаются особенности текстов изящной словесности, грезящих о величии грядущего «счастливого общественного устройства» и соответствующей ему «музыке будущего», – и воспаленные пассажи музыковеда Арсения Авраамова – мечтателя, исследователя также в области микроинтервалики, чьи терминологические и теоретические поиски шли параллельно четвертьтоновым открытиям других русских новаторов – Ивана Вышеградского, Николая Обухова; их предваряли утопические идеи Артура Лурье о музыке «четвертичных тонов» 42 42 А. Лурье. К музыке высшего хроматизма // Стрелец. Петроград, 1915.
.
Читать дальше