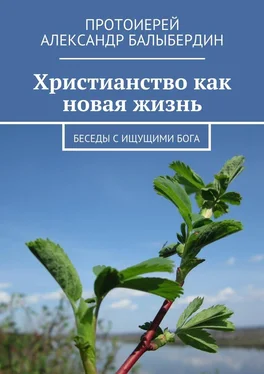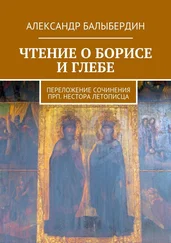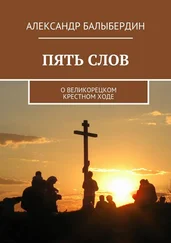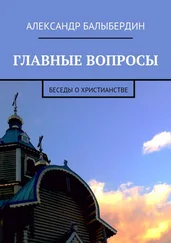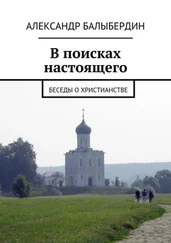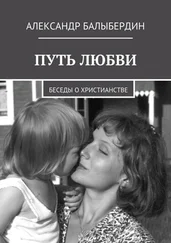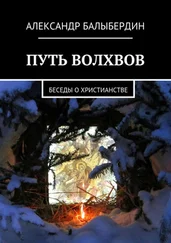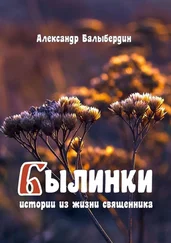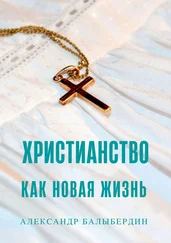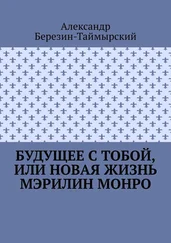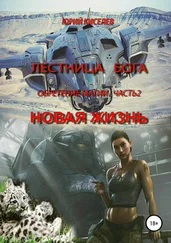Также и Церковь влечет к себе, потому что она близка, но при этом не похожа на мiр. И это притяжение тем сильнее, чем больше ее храмы не похожи на офисы, ее служители – на менеджеров, ее богослужение – на партийные митинги или театральные постановки, проповеди ее служителей – на разговор начальника с подчиненными, ее песнопения – на песни из популярных хит-парадов, ее крестные ходы – на политические демонстрации, а забота о ближних – на рекламные акции крупных компаний. Но при условии, что Церковь не замыкается в себе и остается рядом со своим народом. Соответственно, чем меньше в ней любви и больше политики, официоза и расчета – тем слабее притяжение Церкви.
Слава Богу, что нам дано жить в другие времена!
Притяжение Неба (Таинство Евхаристии)
Думается, неслучайно мне довелось почувствовать реальность свышнего мира именно в храме, который сам является островком Неба на земле . Причем не в переносном, а в прямом смысле. Своим внешним видом и внутренним устройством, богослужением, таинствами и обрядами, священными текстами и церковным пением, одеждами священнослужителей, куполами, крестами, иконами, фресками и другим убранством – всем собой храм не просто напоминает о свышнем, невидимом горнем мире , но являет его в земном, видимом, дольнем мiре. Храм и есть то место, где уже здесь и сейчас на земле с особой силой «пребывает», «светится» и «действует» Царство Небесное 198 198 Шмеман А., прот. Беседы на радио «Свобода»: В 2 т. Т.1. М.: Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет, 2009. C. 306.
.
Это видно даже издалека – с древности храмы было принято располагать на возвышенных местах – ближе к небу, при этом их пространство, как правило, было выделено на местности, обнесено церковной оградой, которая не столько защищала от воров или пожаров, сколько подчеркивала его «инаковость» по отношению к остальным зданиям. Здесь не должно быть ничего мiрского , дольнего, мешающего почувствовать притяжение горнего мира . Здесь не принято курить или распивать спиртное, «носиться сломя голову» и «говорить на повышенных тонах». При входе на территорию храма принято останавливаться и осенять себя крестным знамением. Как если бы при пересечении границы сопредельного государства на вопрос часового «Стой! Кто идет?» мы отвечали «Свои! Гражданин Небесного Царства!».
Конечно, это толкование, как и многое в церковной жизни символично. Но что есть символ? Размышляя над этим, прот. Александр Шмеман замечал, что мы привыкли соотносить символ с «изображением или знаком чего-то другого, чего при этом в самом знаке реально нет, как нет реального, настоящего индейца в актере, изображающем его, или реальной воды в химическом ее символе» 199 199 Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. Глава 2. URL: [битая ссылка] http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/prichaschenie2/evharistiya_tainstvo_tsarstva_02-all.shtml.
. Ряд этих сопоставлений можно продолжить – как купола не являются видимым небом, певцы на клиросе – ангелами, а, войдя в алтарь, мы не оказываемся в мгновение ока на окраине Иерусалима в Сионской горнице, символом которой он является.
Вот только соответствует ли это понимание изначальному смыслу «символа» и «символизма»? Отец Александр писал: «На этот – основной – вопрос я отвечаю отрицательно. Ибо в том-то и все дело, что первичный смысл слова „символ“ совсем не равнозначен с „изображением“. Символ может и не „изображать“, т. е. может быть лишен внешнего „сходства“ с тем, что он символизирует. История религии показывает, что чем древнее, глубже, „органичнее“ символ, тем меньше в нем такой только внешней „изобразительности“ ( как символ вечности – круг внешне не похож на вечность, а компьютерный смайлик на радость – автор ). И это так потому, что исконная „функция“ символа не в том, чтобы изображать (что предполагает отсутствие „изображаемого“), а в том, чтобы являть и приобщать явленному» 200 200 Там же.
.
Об этом напоминает этимология слова «символ», которое обычно производят от греческого συμβαλλω (симбалло), где приставке συμ (сим) в русском языке соответствует «со», а глагол βαλλω (балло) переводится, как сбрасывать. Поэтому буквальный перевод слова συμβαλλω (симбалло) будет звучать как «сбрасываю вместе», «веду к» или «соединяю».
Это позволило А. Ф. Лосеву (1893—1988) определить «символ» как «субстанциальное тождество идеи и вещи» 201 201 Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М.: Наука, 1993. С. 635, а также Символ. URL: [битая ссылка] http://ru.wikipedia.org/wiki/Символ.
, а прот. Александру Шмеману увидеть в нем знак, соединяющий два мира – видимый и невидимый, земной и небесный, а точнее – являющий Небо на земле. Он писал: «В первичном понимании символа он сам есть явление и присутствие другого, но именно как другого, т. е. как реальности, которая в данных условиях и не может быть явленной, иначе как в символе. В нем в отличие от простого изображения… две реальности – эмпирическая („видимая“) и духовная („невидимая“) соединены не логически („это“ означает „это“), не аналогически („это“ изображает „это“) и не причинно-следственно („это“ есть причина „этого“), а эпифанически (от греческого επιφανεια – являю). Одна реальность являет другую, но – и это очень важно – только в ту меру, в которой сам символ причастен духовной реальности и способен воплотить ее» 202 202 Шмеман А., прот. Евхаристия. Таинство Царства. Глава 2. URL: [битая ссылка] http://azbyka.ru/tserkov/duhovnaya_zhizn/sem_tserkovnyh_tainstv/prichaschenie2/evharistiya_tainstvo_tsarstva_02-all.shtml.
.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу