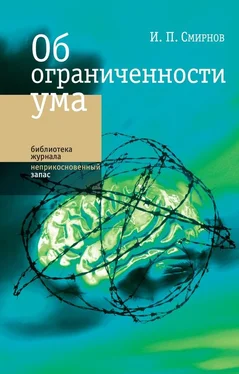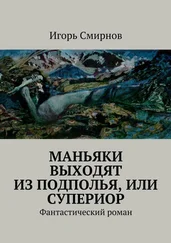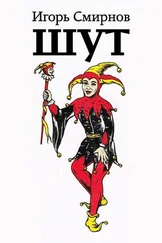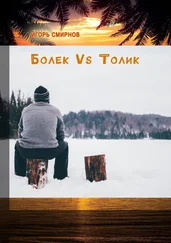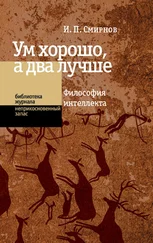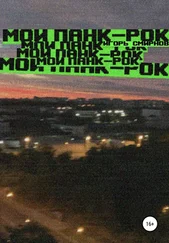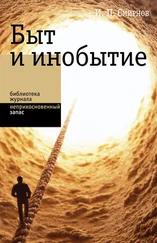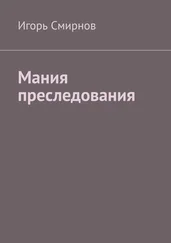В процессе трансцендентального самообуздания человек не столько подчиняется внешней реальности, сколько соревнуется с ordo naturalis – с животным поведением, диктуемым инстинктивными установками на приспособление к среде. Самоограничивание человека – эквивалентная замена инстинктивности, позволяющей животным выживать в зависимости от условий, в которых они пребывают. Что наш плен нами же и учреждается, тем яснее, чем более мы втянуты в историю. Homo historicus жаждет очутиться по ту сторону нормы, потому что она только кажется объективно необходимой, будучи в действительности сотворенной людьми. Однако освободиться от себя человек не в силах, пока он остается человеком. Обóжиться ему не дано. Он меняет стереотипы и ориентиры, но не отказывается от них вовсе. В этом плане история – великий эксперимент, показывающий нам всегдашнюю, постоянно возобновляемую конечность нашей умственной предприимчивости.
II. Приключения на краю ума
Считается, что человек далеко не в полной мере использует производственные мощности головного мозга, скомпонованного из многих миллиардов нервных клеток. Правда, никто толком не знает, на сколько процентов задействовано в норме наше церебральное хозяйство – на двадцать, на десять или всего-навсего на пять? Ответ на вопрос, почему простаивает высокотехнологичное оборудование, купленное дорогой ценой того длительного развития, которому подверглась рефлексирующая материя, кажется исследователям легкой добычей: потому что жизненная рутина не требует от нас, как правило, напряженной мыслительной работы. Теоретический ум винит то, что ему противоположно, – практику, вменяет ответственность врагу, формулируя тем самым свой вердикт машинально, без большой затраты сил и лишний раз подтверждая, что у мозга всегда есть непочатый резерв. Ведь то, что называется «жизненным миром», создано человеком и входит в состав социокультуры. В ней то и дело происходят возмущения, но в своих повседневных проявлениях она скорее инертна, чем неожиданна. Сказанное означает, что мозг, впадающий в автоматизм, скупо расходующий энергию, когда дело касается бытовых нужд, сам себе – в собственных творениях – ставит препоны. Нам постольку неизвестно точно, какая часть наших умственных способностей лежит втуне, поскольку мы не ведаем, как и зачем мы ограничиваем себя – свое сознание и свою поведенческую активность. Весьма вероятно, что человек испытывает нехватку свободы, лишь отзываясь на недостаточную загруженность интеллектуальной аппаратуры, которой он снабжен. Свобода тогда есть осознанная цель того существа, каковое теряется в догадках о том, почему ему приходится загонять себя во всяческие рамочные конструкции.
Я попытаюсь разобраться в том, что такое несвобода и как она преодолевается или не преодолевается, подходя в дальнейших главах книги к этой проблеме с разных сторон. Перед тем как заняться этим, нужно прояснить понятие границы – главное из тех, которыми мне предстоит оперировать. Оно – очевидность для эмпирически настроенного познания, но плохо поддается окончательному – отвлеченному от частных случаев – определению (последний предел всегда убегает от нас, утверждал Жак Деррида, тайно перенося на смысловой универсум космологическую модель, в соответствии с которой вселенная расширяется, то есть и имеет границу, и не имеет ее). Ссылка на личный опыт поможет мне избавиться от умозрительных затруднений.
В отличие от многих моих друзей и знакомых, пустившихся в эмиграцию из России, я покинул страну, оставаясь советским гражданином, что давало мне редкое в те времена (речь идет о первой половине 1980-х годов) право регулярно наведываться на родину. Почти каждое пересечение для многих неприступного рубежа сопровождалось каким-нибудь непредвиденным событием на таможне или у погранбудки, просящимся к изложению. Мне есть что рассказать, если бы я хотел засвидетельствовать истинность лотмановской теории повествования, связавшей сюжетообразование с пересечением границ. Мое намерение заключается, однако, в том, чтобы приблизиться поначалу не к эстетическому, а к философскому смыслу границы. Литературоцентричная отчизна не открыла мне его. Он представился мне более или менее различимым после одной из поездок в Израиль – на конференцию, неофициально приуроченную к шестидесятилетию Д. М. Сегала.
О самой конференции, состоявшейся весной 1998 года, читатель, если пожелает, получит сведения из изящной «виньетки» А. К. Жолковского «В тисках формы». Мне же важно сообщить, что я отправился в Израиль не только для того, чтобы чествовать Дмитрия Михайловича, но и с некоей миссией не научного и не юбилейного характера. Незадолго до того там побывал художник Игорь Захаров-Росс, попросивший меня привезти ему в Мюнхен картину, написанную в Тель-Авиве и почему-то в этом городе застрявшую. Чтобы ответить на мой вопрос: «Велика ли вещь?» – жена Игоря, Аллочка, всплеснула было руками, но потом свела их так, что в промежутке между ладонями не уместилось бы ничего крупнее портмоне. Наглядный образ рассеял поднимавшуюся со дна моей души тревогу, хотя я твердо знал, что Игорь никогда не был замечен в изготовлении миниатюр. Остенсивные определения не самые правдивые из всех (в этом Кант заблуждался), но они, бесспорно, самые успокоительные.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу