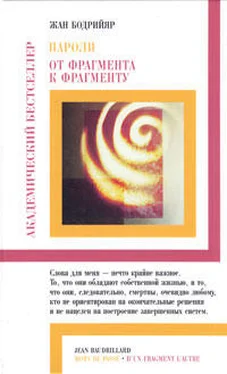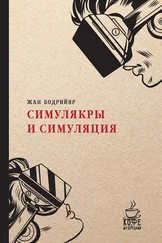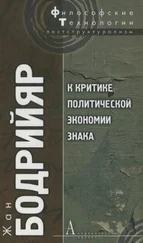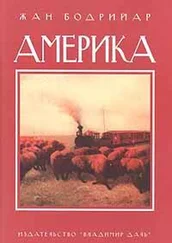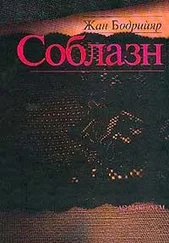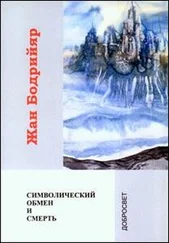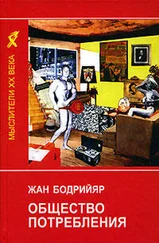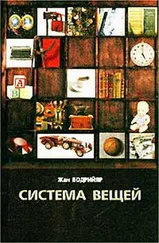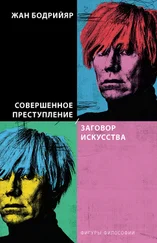К спорам вокруг Ницше я отнесся абсолютно равнодушно. Зато он нужен мне сейчас, и у меня есть идея вернуться к чтению его книг на немецком… Когда завершается определенный этап твоего творчества, в работах Ницше ты всегда можешь найти если не отправную точку дальнейших исследований, то по крайней мере какую-то стимулирующую тебя мысль, а это многого стоит! Но я не люблю быть комментатором чьих-либо, пусть и превосходных, текстов… Отсюда не следует, что мое отношение к Ницше как-то изменилось — он был и останется вписанным в меня под знаком, как он сам выражался, unzeitgemаss, несвоевременного …
Однако, когда я начал писать, моим отправным пунктом всё же стала некая современность… Стремясь непосредственно окунуться в область политики, в сферу семио-социологического, я на какое-то время расстался с ницшеанскими озарениями…
Ведя сейчас с вами беседу о Ницше, я подумал, в частности, о его генеалогическом методе, который позволяет устанавливать, что скрывается за теми или иными идеями, который дает возможность понять, каковы их действительные истоки…
Я применял данный метод, но в рамках исследования нашей повседневности. И могу сказать: он представляет собой лучший способ мышления. Ницше в этом отношении, на мой взгляд, по-настоящему уникален, он просто не имеет себе равных… Однако надо иметь в виду, что моя философская культура, как мне кажется, оставляет желать лучшего, особенно в плане знания мной наследия философов-классиков: Канта, Гегеля… или даже Хайдеггера, которого я, конечно, читал, но не по-немецки и довольно выборочно. Возможно, у нас вообще есть только один серьезно изучаемый нами философ, как есть лишь один крестный отец и лишь одна ключевая идея нашей жизни. Да, я развивался под сильным влиянием Ницше, однако вовсе не хотел быть его последователем и даже, по существу, не ощущал какой-либо зависимости от его взглядов. Конечно, мне доводилось цитировать его тексты, но это случалось достаточно редко. И мне никогда не приходило в голову интерпретировать их таким образом, чтобы они делали выигрышной мою собственную позицию. Если я обращаюсь к ним в настоящее время, то исключительно потому, что в последние годы снова испытываю слабость к форме афоризма — и как человек пишущий, и как человек, занимающийся фотографией… Хотя ницшеанская афористичность чаще всего представляет собой, пожалуй, нечто большее, чем просто афористичность. Как бы то ни было, афористическое использование Ницше — отнюдь не то же самое, что использование его имени в области философии или идеологии…
Или политики, разумеется. Вы говорите, что мы являемся обладателями лишь одной главной идеи нашей жизни… Вот заявление, направленное против устойчивого мнения современности, мнения, согласно которому продуктивное мышление должно постоянно обновлять свою проблематику! Как будто бы из века в век мыслители не перечитывали того или иного выдающегося философа с тем, чтобы в первую очередь извлечь все следствия из одной, но великой идеи!..
Идей бывает множество, но речь-то идет о настоящей мысли! Я действительно думаю, что она в нашей жизни всегда одна…
И какова она, мысль, что живет в вас с самого начала?
Это хороший вопрос, но на него нет ответа. Никто не в состоянии найти некую точку омега, разместившись в которой мы могли бы охватить единым взором эту весьма неоднородную туманность, каковой является наше персональное мышление…
Но возьмем, к примеру, Клемана Россе [31] Россе (Rosset) Клеман (р. 1939) — французский философ, значительное число работ которого посвящено проблеме взаимоотношения человека и реальности. — Перев. )
[32] * Начиная со своей первой книги «Трагическая философия», вышедшей в 1960 году — ему было тогда всего двадцать лет, — и заканчивая последней по времени, «Вдали от меня» (1999), Клеман Россе не переставал культивировать одну и ту же философию: философию в высшей степени радостного мироощущения, полностью, безоговорочно принимающую жизнь.! — Звездочкой (*) отмечены примечания редактора французского издания
: его цель, как мне кажется, всегда заключалась лишь в том, чтобы подчеркнуть простоту реальности, ее, если угодно, идиотизм, и все его творчество — не более чем развитие этой «интуиции» юности… По-видимому, можно сослаться и на Декарта с тремя его снами [33] Речь идет о снах, следовавших друг за другом в ночь на 10 ноября 1619 года, о которых Декарт рассказал в рукописи под названием «Олимпика».
, в которых ему открылось существо знаменитого метода… В обоих случаях мы имеем дело с достаточно рано сформировавшейся мыслью!
Читать дальше