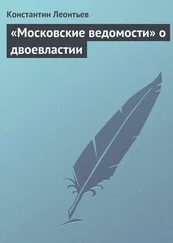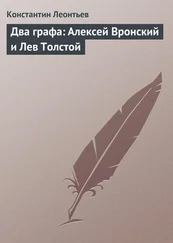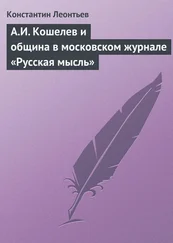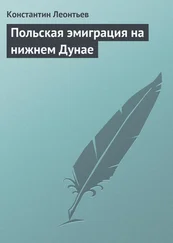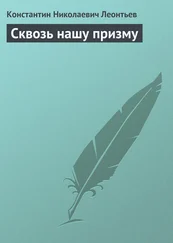Явления эгалитарно-либерального прогресса схожи с явлениями горения, гниения, таяния льда (менее воды свободного , ограниченного кристаллизацией); они сходны с явлениями, например, холерного процесса, который постепенно обращает весьма различных людей сперва в более однообразные трупы (равенство), потом в совершенно почти схожие (равенство) остовы и, наконец, в свободные (относительно, конечно): азот, водород, кислород и т. д.
(«On est débordé» [36], говорят многие, это дело другое. «On est débordé» и холерой. Но почему же холеру не назвать по имени? Зачем ее звать молодостью, возрождением, развитием, организацией !)
При всех этих процессах гниения, горения, таяния, холерного поступательного движения заметны одни и те же общие явления:
а) утрата особенностей, отличавших дотоле деспотически сформированное целое дерево, животное, целую ткань, целый кристалл и т. д. от всего подобного и соседнего ;
б) большее против прежнего сходство составных частей , большее внутреннее равенство , большее однообразие состава и т. п.;
в) утрата прежних строгих морфологических очертаний : все сливается, все свободнее и ровнее .
Итак, какое дело частной, исторической реальной науке до неудобств, до потребностей, до деспотизма, до страданий?
К чему эти ненаучные сентиментальности, столь выдохшиеся в наше время, столь прозаические вдобавок, столь бездарные? Что мне за дело в подобном вопросе до самих стонов человечества?
Какое научное право я имею думать о конечных причинах, о целях, о благоденствии, напр., прежде серьезного, долгого и бесстрастного исследования?
Где эти не догматические, бесстрастные, скажу даже, в прогрессивном отношении, пожалуй, безнравственные, но научно-честные исследования? Где они? Они существуют, положим, хотя и весьма несовершенные еще, но только именно не для демократов, не для прогрессистов.
Какое мне дело, в более или менее отвлеченном исследовании, не только до чужих, но и до моих собственных неудобств, до моих собственных стонов и страданий ?
Государство есть, с одной стороны, как бы дерево, которое достигает своего полного роста, цвета и плодоношения, повинуясь некоему таинственному, независящему от нас деспотическому повелению внутренней, вложенной в него идеи. С другой стороны, оно есть машина, и сделанная людьми полусознательно, и содержащая людей, как части, как колеса, рычаги, винты, атомы, и наконец, машина, вырабатывающая, образующая людей. Человек в государстве есть в одно и то же время и механик, и колеса или винт, и продукт общественного организма.
На которое бы из государств древних и новых мы ни взглянули, у всех найдем одно и то же общее: простоту и однообразие в начале, больше равенства и больше свободы (по крайней мере фактической, если не юридической свободы), чем будет после . Закрывши книгу на второй или третьей главе, мы находим, что все начала довольно схожи, хоть и не совсем. Взглянув на растение, выходящее из земли, мы еще не знаем хорошо, что из него будет. Различий слишком мало. Потом мы видим большее или меньшее укрепление власти , более глубокое или менее резкое (смотря по задаткам первоначального строения) разделение сословий , большее разнообразие быта и разнохарактерность областей .
Вместе с тем увеличивается, с одной стороны, богатство, с другой – бедность, с одной стороны, ресурсы наслаждения разнообразятся, с другой – разнообразие и тонкость (развитость) ощущений и потребностей порождают больше страданий, больше грусти, больше ошибок и больше великих дел, больше поэзии и больше комизма; подвиги образованных – Фемистокла, Ксенофонта, Александра, – крупнее и симпатичнее простых и грубых подвигов Одиссеев и Ахиллов. Являются Софоклы, являются и Аристофаны, являются вопли Корнелей и смех Мольеров. У иных Софокл и Аристофан, Корнель и Мольер сливаются в одного Шекспира или Гёте.
Вообще в эти сложные цветущие эпохи есть какая бы то ни было аристократия – политическая, с правами и положением, или только бытовая, т. е. только с положением без резких прав, или еще чаще – стоящая на грани политической и бытовой. Эвпатриды Афин, феодальные сатрапы Персии, оптиматы Рима, маркизы Франции, лорды Англии, воины Египта, спартиаты Лаконии, знатные дворяне России, паны Польши, беи Турции.
В то же время, по внутренней потребности единства, есть наклонность и к единоличной власти, которая по праву или только по факту, но всегда крепнет в эпоху цветущей сложности. Являются великие замечательные диктаторы, императоры, короли или, по крайней мере, гениальные демагоги и тираны (в древнеэллинском смысле), Фемистоклы, Периклы и т. п.
Читать дальше