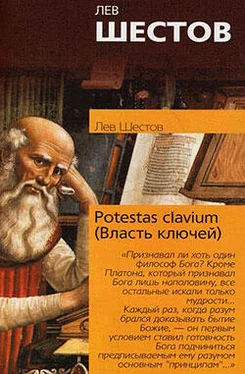Я знаю очень хорошо, что Спиноза в еще большей степени, чем Гегель, был врагом мифологии, что для него библейская мифология не имела никаких преимуществ пред языческой. И все-таки я не мог не вспомнить про Адама и грехопадение. Свою этику Спиноза заканчивает словами: omnia præclara tarn dificilia, quam rara sum, – что это, как не передача «своими словами» грозного напутствия Бога Адаму и Еве при изгнании из рая: в поте лица своего будешь добывать хлеб свой и т. д.? Почему все прекрасное должно быть редким и трудным? Казалось бы наоборот, что хлеб насущный человеку следовало добывать легко и радостно. И женщине – рождать детей без болей. Ведь все, что «естественно», должно было бы, если только слово «естественный» имеет хоть какой-нибудь смысл, – соответствовать воле и устремлению, а также и физической организации человека. Труд бы должен был быть потребностью нашей, а роды не только безболезненными, но приятными. Даже смерть, как естественный конец, должна была бы быть не страшной, а досланной гостьей.
Но Спиноза, как и все большие философы, чувствовал, что в философии нужно идти не по линии наименьшего, а по линии наибольшего сопротивления. Если правильно, что πόεμος πατὴρ πάντων, [215]то философия должна быть πόεμος по преимуществу. Оттого, вероятно, эвдаймонистические, гедонистические и даже утилитарные теории морали никогда долго не заживались на земле. Философ ищет трудного, ищет борьбы. Его стихия – проблематическое и вечно проблематическое. Он знает, что рай потерян, – и хочет вернуть потерянный рай. Если нельзя вернуть сейчас или в ближайшем будущем, он готов ждать годы, десятилетия, до конца жизни, – а нужно, отложит задачу и на после смерти, хотя для этого пришлось бы жить в величайшем напряжении и всегда испытывать лишь муки и боль неосуществленного материнства.
У Спинозы, несмотря на загадочное и все покоряющее внешнее спокойствие, эта напряженность достигает крайней степени. Быть может, самое замечательное в его философии, что он умел говорить простыми, даже бедными словами о тягчайших и величайших событиях своей внутренней жизни. Его прославившееся изречение, non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere, – вовсе не значит, что он не смеялся, не плакал и не проклинал. Я даже готов перевести его словами Паскаля, на первый раз как будто столь противуположными: «je n’approuve que ceux, qui cherchent en gémissant». Когда он, подобно монаху, дающему обеты воздержания, бедности и послушания, отрекается от divitiæ, honores et libidines, кажется, что вновь повторяется трагедия изгнания Адама из рая. Ведь что такое divitiæ, honores et libidines? Как будто три маленьких слова – да еще таких, которые никогда не таили в себе ничего привлекательного для философа. Но ведь под ними весь Божий мир! Если хотите, даже рай, ибо, как передается в Библии, в раю было великое изобилие всех богатств, и радости там не возбранялись, человек был в почете, и все страсти, кроме одной – страсти к познанию, – были дозволены и даже поощрялись. Теперь стоит над всем этим ангел с огненным мечом, и только к дереву познания, к intelligere, остался свободный доступ.
Конечно, и огненный меч, и ангел – только образы. Я не хочу смущать современного образованного читателя, требуя от него веры в сверхъестественное. И вообще, я никаких требований не предъявляю. Но вот действительность. Хотите – не хотите, Спиноза прав: и divitiæ, honores et libidines, Боже, какими жалкими и ничтожными являются они здесь, на земле! Если лаконические рассуждения Спинозы вас не удовлетворяют, перечтите Шопенгауэра: он вам обо всем расскажет со свойственной ему яркостью красок и живописью воображения. И прибавит, что в маленьком трактате Спинозы все это implicite уже заключено.
Но, спросят, при чем же тут ангел и огненный меч? Есть и то и другое, только не вне, а внутри человека, как и то яблоко, которое проглотил наш праотец. Они в нашем стремлении intelligere, в искусстве созидать общие понятия. Стоит только человеку, как это сделал, по завету своих предшественников, Спиноза, заговорить на языке общих понятий, и рай мгновенно превращается в ад. Там, где были прекрасные сады, где пели птицы, играли вчера сотворенные и вечно юные львы, где радовались, любили, где была жизнь, свободная и торжествующая, там появились divitiæ, honores, libidines – понятия, которые, будете ли передавать на русском или на латинском языке, обозначают одно: смерть, смерть и смерть. И философия Спинозы с ее гордой вершиной, amor Dei intellectualis, – тоже смерть: внутри человека стоит ангел с огненным мечом и не пускает в рай.
Читать дальше