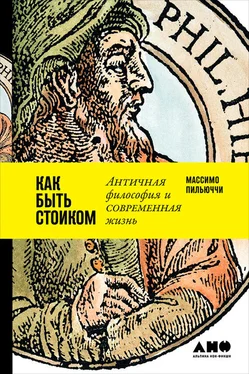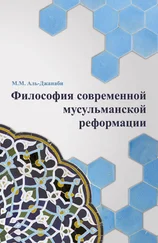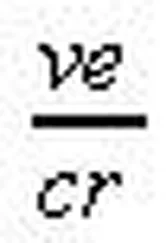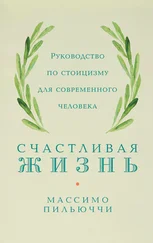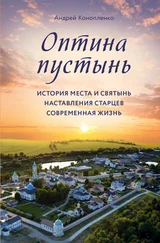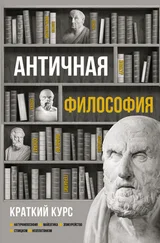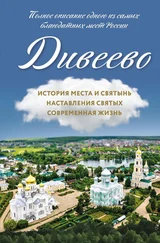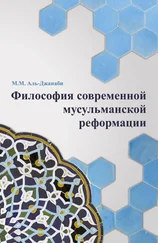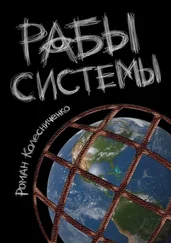В современных дискуссиях о корнях нравственности есть четыре основных взгляда на проблему (в философии это называется «метаэтическими» позициями): скептический, рационалистический, эмпиристический и интуитивистский. Скептики утверждают, что невозможно узнать, какие этические суждения верны, а какие — нет. По их мнению, когда люди говорят «убийство — это плохо», они совершают так называемую категориальную ошибку [34] Они совершают так называемую категориальную ошибку…: Понятие категориальной ошибки проще всего объяснить на классическом примере из курса введения в философию. На первый взгляд может показаться, что вопрос «Какого цвета треугольники?» с подвохом. Но на самом деле спрашивающий совершает ошибку, применяя категорию цвета к геометрической фигуре. К треугольникам можно применить такие категории, как величина углов, размер сторон и так далее, но не цвет — хотя, конечно, конкретный треугольник может иметь определенный цвет. Если вы зададите такой вопрос неподготовленному человеку, то сможете поставить его на несколько секунд в тупик, пока он не осознает подвох.
, то есть смешивают не связанные между собой вещи: констатацию факта (совершено убийство) и оценочное суждение (что-то является плохим и неправильным). Скептики считают, что разрыв между положением вещей и долженствованием нельзя преодолеть и факты не связаны с оценочными суждениями. Понятно, что подобные воззрения не добавляют популярности нравственным скептикам.
Приверженцы рационализма считают, что к любому знанию можно прийти не путем наблюдений и экспериментов, а всего лишь размышляя о предмете. Наверняка вы сразу представили себе стереотипный образ так называемого «кабинетного философа», но не спешите смеяться: именно таким рационалистическим методом логики и математики производят новые знания, поэтому вопрос состоит в другом: похожа ли в таком случае этика на математику или логику? Одни считают, что да, другие — нет.
Рационализму часто противопоставляется эмпиризм, согласно которому мы приходим к знаниям путем наблюдений и экспериментов. Поскольку наука — вещь в высшей степени эмпирическая, то идея, будто этические знания могут быть получены эмпирическим путем, представляет собой попытку научным способом преодолеть вышеуказанный разрыв между бытием и долженствованием.
Наконец, последователи интуитивизма утверждают, что этические знания не требуют какого-либо выведения, будь то путем рассуждений или эмпирических наблюдений, потому что они изначально заложены в нас. По их мнению, этические знания — это интуиция, позволяющая проводить четкие различия между правильным и неправильным. Как такое может быть? Как я уже говорил, приматы демонстрируют зачатки этического поведения, например когда приходят на помощь неродственным особям, оказавшимся в беде. Вряд ли такое поведение карликовых шимпанзе объясняется их знакомством с этическими представлениями о правильном и неправильном. Они действуют инстинктивно, эти инстинкты были заложены в них от рождения и развились в процессе естественного отбора, поскольку для выживания небольшим группам приматов просто необходимо просоциальное поведение. Учитывая, что у нас с карликовыми шимпанзе есть общий, причем не такой уж и далекий предок и что наши собственные предки также жили небольшими группами, в которых просоциальное поведение было адаптивным, можно предположить, что люди действительно могли унаследовать врожденный моральный инстинкт [35] Мы действительно могли унаследовать врожденный моральный инстинкт…: Концепция морального инстинкта доступно объясняется в статье: Stephen Pinker, "The Moral Instinct," New York Times Magazine, 13 января 2008 года.
.
Подход стоиков к этике интересен тем, что он не вписывается ни в одну из этих жестких категорий. Стоическую доктрину можно рассматривать как комбинацию интуитивизма, эмпиризма и рационализма. Но стоики определенно не были скептиками, они придерживались теории «возрастного развития» этической осознанности. Ее суть состоит в том, что в начале жизни мы руководствуемся только инстинктами (а не разумом) и они заставляют нас заботиться о себе и о близких людях, обычно членах семьи. В этот период наше этическое поведение интуитивно, оно основано на нравственном инстинкте, заложенном в человеческую природу.
По мере вступления в сознательный возраст [36] По мере вступления в сознательный возраст…: Это изменение в сознании и психологии ребенка в 5–7-летнем (или в 6–8-летнем) возрасте, замеченное еще античными людьми, в настоящее время подтверждено убедительными доказательствами из области психологии и нейробиологии. Подробности можно узнать, например, в книге: Arnold J. Sameroff and Marshall M. Haith, The Five to Seven Year Shift: The Age of Reason and Responsibility (Chicago: University of Chicago Press, 1996).
— примерно в возрасте 6–8 лет — мы учимся расширять нашу этическую осознанность: начинаем проводить четкие различия между мыслями и действиями, лучше понимаем мир и свое место в нем. С этого момента наши инстинкты подкрепляются (а иногда и корректируются) комбинацией самоанализа и опыта, то есть как рационалистическим, так и эмпиристическим процессом. Стоики считали, что чем взрослее мы становимся в психологическом и интеллектуальном плане, тем больше баланс должен смещаться от врожденных инстинктов в сторону применения (эмпирически обоснованных) рассуждений. Вот что писал на этот счет Эпиктет: «И вообще он [Зевс] устроил [37] «И вообще он [Зевс] устроил…»: «Беседы Эпиктета», I.19.
природу обладающего разумом существа такою, чтобы оно не могло осуществлять ни одного личного блага без того, чтобы не приносилась какая-то польза для общего блага. Таким образом, все делать для себя уже тем самым не становится необщественным». Это снова возвращает нас к вопросу о человеческой природе: Эпиктет утверждает, что фундаментальный аспект человеческой сущности — социальность, и не только потому, что нам нравится компания других людей, но и в более глубоком смысле, ведь мы не можем существовать без помощи других. Отсюда следует, что когда мы стараемся для общего блага, то делаем это пусть косвенно, но и на благо себе. Этот проницательный взгляд на природу человека сегодня, спустя шестнадцать веков, подтверждается открытиями современной науки: установлено, что люди эволюционировали как вид социальных приматов, разделяющий адаптивные просоциальные инстинкты со своими собратьями по эволюционному дереву.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу