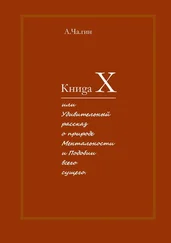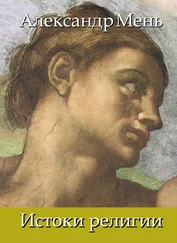Определение человека снова и снова разрабатывается по-новому у Шопенгауэра, а также у Ницше, и конечно же в так называемой современной «философской антропологии», возникновение которой можно датировать моментом появления в январе 1928 года книги Макса Шелера «Положение человека в космосе». [708]Шелер со своей стороны при определении человека уповал пока еще на преимущество разума, другие, напротив, усиленно стремились понять человека с точки зрения биологии. [709]
4. СМЕРТЬ И ВОПРОС О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ
С проблемами смерти как глубоко фундаментальными феноменами человеческого существования мы уже сталкивались в контексте осмысления понятия страха. Но ограничились только понятием эроса. Страх и эрос по-разному открывают доступ к проблематике смерти.
На страх в его принципиальном отношении к смерти указывали прежде всего Кьеркегор и Хайдеггер. Правда, для Кьеркегора страх латентно проявлялся еще до «первородного греха». Человек в этом состоянии для него хотя и представляется только грезящим духом, тем не менее он уже живет — если верить Кьеркегору — в страхе перед самим собой. Страх духа все же только после падения, т. е. после недвусмысленного самоподтверждения духа, стал тем страхом, который появился из противоположности духа и тела и вместе с тем как результат знания о смерти: бытию духа следовало решиться на то, чтобы подтвердить себя.
Подтвердить себя — значит, по Кьеркегору, обрести телесность. Обретение телесности духом он описывает как синтез, в котором знающий о себе дух человека есть человек, но в то же время он знает и о своей животности. Хотя определение человека состоит в том, чтобы быть духом, однако бытие духа означает для человека постоянную связь с телом и чувственностью. Эта связь означает трудное становление благодаря телу, и в особенности благодаря сексуальности, и потому она порождает страх. В таком состоянии страха тело познает себя не только в своем половом разделении на мужчину и женщину, но и просто как смертное существо:
Зверь, собственно, не умирает; но там, где дух полагается как дух, смерть проявляется как нечто ужасное… В мгновение смерти человек находится на крайней точке синтеза; дух как бы не может присутствовать здесь; он, конечно, не может умереть, но ему приходится ждать, поскольку телу нужно умереть. Языческое представление о смерти — именно потому что их чувственность была наивнее, а временность — беззаботнее, — было мягче и дружелюбнее, однако ему не хватало высшего… Есть необъяснимая тоска во всем, когда видишь этого гения дружелюбно склонившимся над умирающим и гасящим своим поцелуем последнее дыхание последней искры жизни, между тем как все, что было пережито, уже исчезает одно за другим, а смерть остается здесь как тайна, которая, будучи сама необъяснимой, объясняет все; она объясняет, что вся жизнь была игрой, которая кончается тем, что все — великие и ничтожные — уходят отсюда, как школьники по домам, исчезают, как искры от горящей бумаги, последней же, подобно старому учителю, уходит сама душа. И потому во всем этом заложена также немота уничтожения, поскольку все было лишь детской игрой, и теперь игра закончилась. [710]
Мы уже знаем от Хайдеггера о связи страха и смерти как о вхождении в ничто и указывали на то, как через «завершенность» существование получает свой жизненный смысл.
Второй упомянутый способ познания смерти связан с феноменом любви. Смерть присуща даже Эроту. Платон полагал в «Пире»: Орфей ни с чем вернулся из ада, он смог увидеть только призрак Эвридики, а не саму ее, поскольку богам показался чересчур изнеженным. Им показалось, что он «не отважился умереть из-за любви»:
Зато Орфея, сына Эагра, они спровадили из Аида ни с чем и показали ему лишь призрак жены, за которой тот явился, но не выдали ее самой, сочтя, что он, как кифаред, слишком изнежен, если не отважился, как Алкестида, из-за любви умереть, а умудрился пробраться в Аид живым. [711]
Вопрос о смысле жизни ввиду неизбежности ее конца при познании противоречия смерти и любви становится тем более опасным, чем более он осознается как конституирующий человеческую жизнь. К тому же смерть как основной феномен человеческой жизни подобна любви. Любовь есть снятие индивидуальности, соответствующей Я, в пользу единства в Мы. Смерть также является снятием индивидуальности, притом окончательным. [712]Не только мы подвластны смерти, но и смерть подвластна нам, и ее нужно постигать не меньше, чем любовь. «Да простит меня Бог! Я не понимаю смерти в его мире», — восклицает Гельдерлин, [713]перед смертью мы бессильны:
Читать дальше
![Хаймо Хофмайстер Что значит мыслить философски [Поиск фундамента всего знания и всего сущего] обложка книги](/books/27715/hajmo-hofmajster-chto-znachit-myslit-filosofski-po-cover.webp)