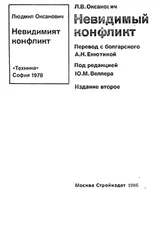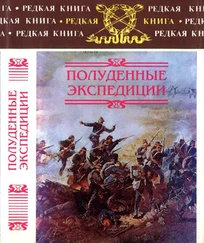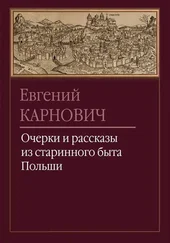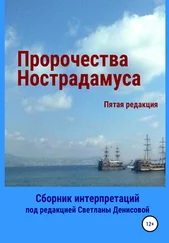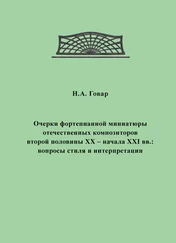В мимесисе-Ш мир текста и мир читателя, мир, конфигурированный поэзией, и мир, в котором осуществляется деятельность человека, пересекаются. Под миром здесь понимается то, что феноменология (Гуссерль) и герменевтика (Гадамер) обозначают как горизонт ожидания. Мир текста — это мир, проецируемый автором за пределы текста, мир, складывающийся из взаимодействия внутренней динамики повествования и его проективных («призывных») интенций. Онтологический статус текста пребывает в «подвешенном состоянии»: текст избыточен по отношению к
своей структуре и ждет своего прочтения. Одновременно мир текста избыточен и по отношению к миру повседневности, миру обыденной практики, практики существования. Это, утверждает Рикёр, фундаментальная черта горизонта ожидания, где формируется новое восприятие, новый опыт, противостоящие наличной культуре, где высвечивается несовпадение между миром воображаемым и привычной реальностью.
Мир читателя — это мир его надежд, чаяний, устремлений. В акте чтения ожидания автора и надежды читателя пересекаются: осуществляется акт интерсубъективного общения, где «ни субъективность автора, ни субъективность читателя не являются первичными». [19] Ricoeur P. Ce qui me préoccupe depuis 30 ans // Esprit, 1986, № 8/9. P. 241.
Более того, интенция автора не дана непосредственно, как это бывает, например, в прямой речи, обращенной к собеседнику. Она, как и все значения текста, должна быть реконструирована: «интенция текста не лежит на поверхности, она сама становится герменевтической задачей» [20] Ibid
. Понимание текста — непростая задача, требующая духовных усилий читателя, соединенных с «даром» текста и стимулированных им. В сознании читателя осуществляется работа со смыслом и временем, то, о чем говорил Августин: текст погружается в память читателя и зовет к продуктивному воображению.
В итоге целью интерпретации текста является создание «проекта мира, в котором я мог бы жить и осуществлять свои самые сокровенные возможности» [21] Ricoeur P. Réflexion faite. Autobiographie intellectuelle. Paris, 1995. P. 57.
. Рефигурация есть деятельность человека в мире. Завершение художественного произведения приводит к созданию новой жизненной позиции, к новому самопониманию читателя, к последующей деятельности, в которой, в конечном счете, и реализуется произведение, — оно возвращается в жизнь, вписывает поэтическую деятельность в мир повседневного опыта. Но возвращается произведение не в ту точку, где оно началось, а в другую, смещенную по отношению к исходной благодаря вновь приобретенному читателем опыту и приведения его в действие.
С точки зрения повествовательности Рикёр осмысливает и философское понимание субъекта. Целостность, автономность, творческая сущность человека рассматриваются им как «повествовательная идентичность», без которой, по мнению французского философа, проблема личной идентичности не может быть решена: либо мы полагаем, что субъект всегда идентичен самому себе, либо считаем самоидентичность субъекта субстанциалистской иллюзией. Человеческая «самость» может избежать этой дилеммы, если ее идентичность будет основана на временной структуре, соответствующей модели динамической идентичности, которую содержит в себе поэтика повествовательного текста. Рикёровское повествование, справедливо отмечает О. Монжен, выступает как то, что «связывает индивида с самим собой, вписывает его в память и проецирует вперед». [22] Mongin О. Face à l'éclipsé de Récit// Esprit, 1986, № 8/9. P. 225.
Вместе с тем, как считает Рикёр, субъект, предстоящий перед историей, памятью, должен составить повествова-ние-для-другого, что говорит об общественном характере отдельного человека. В этой связи французский философ заявляет о своем несогласии с хайдеггеровским анализом времени и историчности. У Хайдеггера, считает он, время есть черта человеческой конечности, направленности человеческого бытия к смерти, а потому его характеризует внутренняя закрытость и монологичность. Хотя описание «горизонта ожидания» в феноменологической герменевтике и бытия-впереди-себя Хайдеггера почти дословно совпадают, горизонт ожидания является характерной чертой деятельности, открытой будущему и включенной в историческую практику всего человеческого сообщества.
Итак, под воздействием художественного произведения человек-субъект не только воображает возможный мир и изменяет самого себя, но и действует, стремясь реализовать этот воображаемый мир. Вслед за выходом трехтомного исследования «Время и рассказ» Рикёр публикует работу под названием «От текста к действию», где продолжает изучение субъекта, обращаясь к марселевской теме воплощения и к учению Ясперса о пограничных ситуациях. Теперь он занят тем, что «включает теорию текста в теорию действия» [23] RicoeurP. Du texte à l'action. P. 8.
Читать дальше