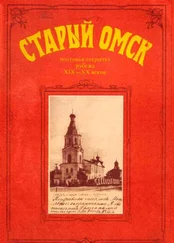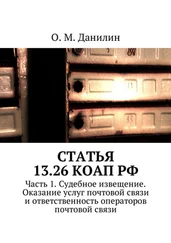Пусть все снова обратится в почтовую открытку, они получат от меня лишь почтовые открытки, и никогда настоящее письмо, которое предназначено исключительно для тебя, не для твоего имени (так как у тебя много имен, особенно сейчас, и они у всех на устах), а для тебя. Только тебе — живой.
Ты скажешь мне, что такое подчеркнуто уничижительное отношение (это не так) противоречит моему культу почтовых открыток, тому, что я провозглашаю невозможность для одного-единственного адресата когда-либо идентифицироваться, и то же в отношении назначения, а также что касается ответа и ответственности. Это идет вразрез с тем фактом, что письмо в тот момент, когда оно имеет место (и я говорю не только о сознании), делится на кусочки, превращается в почтовую открытку. В этом и состоит трагедия нашей судьбы, любовь моя, эта злополучная лотерея, но все же я начинаю любить тебя с того момента, когда это уже невозможно; тупик, предписанный судьбой, не позволит нам уповать на удачу, разглядеть ее, когда однажды она смилостивится. Мы сознаем, что это немыслимо, даже Богу не под силу ниспослать такую удачу (да, Бог будет бессилен сделать сегодня возможным то, что, как ты знаешь, осталось запретным для нас, даже Бог, кто является мерилом всего), но шанс тупика, предписанного судьбой, это, быть может, сам тупик, и то, что в нем происходит, не имеет возможности пройти. Этот шанс (утверждение без выхода) может прийти к нам только от тебя, ты слышишь меня. Слышишь ли ты меня? Нужно ли, чтобы я придумал тебе другое имя для того, чтобы ты дала нам шанс? или чтобы наконец проснулось другое, одно из твоих тайных имен?
Я перечитываю (и это действительно в первый раз, с тех пор как я пишу тебе), потому что ты меня застала как раз в тот момент, когда я писал тебе, а ты позвонила из кафе. Нет, я повторяю то, что только что сказал тебе: не было ничего «решающего» в том письме до востребования — хотя я так и не раскрыл его, — всего лишь детали, которые, быть может, да, быть может, помогут тебе понять и одобрить, если только ты хочешь, если ты можешь. Хорошо, оставим это. Итак, я перечитываю написанное и думаю при слове «лотерея» о трех вещах: о моей матери, которая играла в покер (уже, всегда! теперь — нет, сейчас она уже почти не играет, и я жалею об этом, а когда-то я на нее за это сердился), о моем рождении, о моменте первых схваток, которые застали ее с картами в руках; о наших партиях в бридж, еще до того, как между нами все началось (ты вела счет на листах бумаги, которые ты все еще хранишь); и, наконец, сразу же после рождения, нашего рождения, этот особенный вечер в казино (ты помнишь продолжение, правила, сумасбродства на обратном пути, двух пьяных моряков, рыжебородых англичан, которые пытались ввалиться за нами в отель, а мы закрыли двери!). Да, судьба, ужасная лотерея, мы не можем ни сохранить себя, ни потерять, и это любовь, то, что нас держит «сердцем». Это бездонное несчастье, бедствие этой удачи, я сознаю, что другие неспособны выдержать этого, это невыносимо, и даже я не пытаюсь выдержать это. Можно только надсадиться, доказывая свою правоту (откуда эта правота, которая не представляет для нас ничего, мы ведь не разумом любим друг друга)
я хочу сказать, когда Платон, к примеру, посылает эту рекомендацию и не неизвестно кому, а самой тиранической власти, Дионису (ты помнишь, мы говорили о том, чтобы вырваться на Сицилию этим летом, мы были совсем недалеко от нее, но ты воспротивилась, когда несчастье распорядилось, чтобы на побережье, к югу от Рима, этот проклятый телефонный звонок — и самое худшее — это то, что ничто не заставляло меня звонить, меня самого, именно тем вечером), когда он пишет, что он ничего из всего этого не написал, что нет никакого творчества П., только С., конечно же, совершенно так не считая, но кто знает, он говорит о лучшей «защите», о лучшем «сохранении»: не писать, но учить наизусть. Слово сохранение: в этот момент я люблю его, я говорю ему, что люблю его, и люблю говорить себе это, заставлять его петь, долго растягивать а, вытягивать его в длину, это голос, моя гласная, буква — самая знаковая, все начинается с нее. На греческом это тоже великолепное слово, phulake: охрана, но также охранник, часовой (желание соотносить это слово с тем, о чем говорится в По ту сторону… Lebensiwachter, хранители жизни, которые в то же время являются спутниками смерти (TrabantendesTodes). Phulake обозначает еще и место охраны, тюрьму например, а потом надзор, предохранение, защиту и т. д. Отсюда недалеко и до Закона и полиции. И «филактера» идет оттуда же. Ты знаешь, что это представляет собой для нас, ну, для евреев. Но ты поймешь, почему я вдруг бросился читать это определение в моем словаре: «phulakterion… место для хранения, пост, караульное помещение… презерватив… талисман, амулет… у Евреев, табличка, которую носили на шнурке на шее и где были написаны стихи закона Моисея…»
Читать дальше