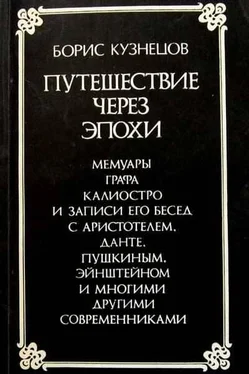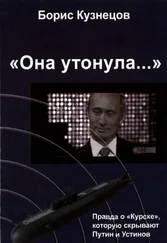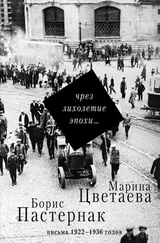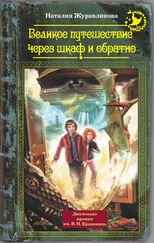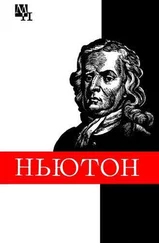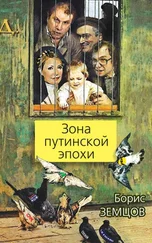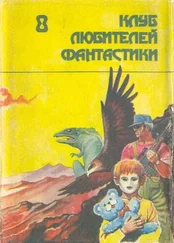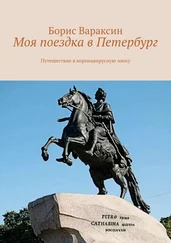Представление о химерах Нотр-Дам, углубившихся в физику ХХ века, перешло границы даже привычной для меня парадоксальности. Но Гейне не дал мне времени для реплики.
— Вы говорили мне об идеях некоего Эйнштейна, о котором я никогда не слыхал и, вероятно, не услышу. Я понял немногое, вернее, даже не понял, а ощутил некоторую романтику упорядоченного рационального мира, состоящего из вполне определенных траекторий частиц, в которых точка пребывания частицы связана с показателем часов, с каким-то определенным мгновением. Я не знаю, существует ли Эйнштейн или, как вы говорите, он будет существовать (это парадоксальное «будет» меня мало смущает), но я думаю, что такая идея увеличивает шансы разума, которому служит мое перо или, как сказали бы наши сентиментальные поэты, моя лира, а лучше бы сказать, мой барабан… Однако душу лирика здесь кое-что смущает.
— Что именно?
— Видите ли, совсем недавно я встретился с моим другом, молодым немецким революционером. Его зовут Карл Маркс [52] Маркс Карл (1818–1883).
. Он рассказал мне о своей юношеской диссертации, посвященной натурфилософии Демокрита и Эпикура. Маркс по-новому рассматривал знаменитые Эпикуровы clinamen — спонтанные отклонения атомов от путей, предписанных законами природы. Такие отклонения означают индивидуальное бытие атомов, их автономию… А есть ли такие clinamen в системе вашего Эйнштейна? По вашим словам, вы можете увидеться с Эпикуром. Спросите его, как он относится к физике Эйнштейна. Не повторит ли он свое «лучше быть рабом богов, чем рабом физиков»? Конечно, меня, как и Эпикура, беспокоит не столько судьба атомов, сколько индивидуальность. Автономия человека.
Я не отважился рассказать Гейне о созданных в ХХ веке в теории элементарных частиц аналогах Эпикуровых clinamen. Я только спросил его, почему он приписывает столь физические размышления химерам Нотр-Дам.
— Ведь они больше подходили бы скульптурам Сорбонны.
— Скульптуры Сорбонны, постоянно встречаясь с профессорами, разучились размышлять. Что же до химер, они мыслят о clinamen не потому, что они химеры Нотр-Дам, а потому что они химеры. Химеры — это clinamen готики. Посмотрите, какая мысль запечатлена на причудливых мордочках химер? О чем они размышляют? В чем культурно-историческая функция этих иронических гримас, подчас грустных, подчас равнодушных и всегда углубленных в себя?
Именно: углубленных в себя. Именно в этом содержание размышлений химер. Здесь индивидуальное сознание не поглощено высшими принципами, которые нивелируют и идентифицируют индивиды, превращают их в простые воплощения универсального понятия. Химеры декларируют свою индивидуальную самобытность, свою нетождественность другим индивидам, другим элементам множества, они борются с нивелирующей властью целого.
Вспомните, — продолжал Гейне, — нашу недавнюю поездку в Реймс. Вспомните церковь ХII века — ровесницу Нотр-Дам в одной из деревень Шампани. Анонимный скульптор окружил наружные стены бордюром, состоящим из лиц жителей деревни. Здесь индивидуальность выступает не в фантастически-символических образах парадоксальных химер, а в приземленных (и в этом смысле оппозиционных по отношению к готическому духу) скульптурных портретах.
Я рассказал Гейне о введенном М. М. Бахтиным [53] Бахтин М. М. (1896–1975), историк литературы. Особенно известны его книги «Поэтика Достоевского» (М., 1967) и «Творчество Франсуа Рабле» (М., 1970), где изложена упомянутая в тексте концепция «карнавальной культуры». Этим названием М. М. Бахтин именует идущую из средневековья через Возрождение и новое время тенденцию принижения и высмеивания священных в глазах церкви устоев средневековой идеологии, тенденцию, особенно ясно выраженную в карнавальных представлениях.
понятии карнавальной скульптуры, и он сразу же ввел это понятие в цепь своих построений.
— Возрождение унаследовало обе формы борьбы за индивидуальность против нивелирующей тенденции готики — карнавальные черти были потомками химер, а нарочитая грубость карнавальных зрелищ поднимала и продолжала оппозиционную, приземляющую традицию средневековья.
Как это часто бывает с Гейне, он перешел от историко-культурных обобщений к полемическим политическим и литературным характеристикам.
— Химеры думают об индивидуальном, прижизненном, локальном. Но они думают и о целом, об истории человечества, о ее смысле. Их гримасы адресованы моим соотечественникам, мудрецам исторической школы, которые видят в истории только повторение, отрицают необратимый прогресс цивилизации, этим оправдывают свой сентиментальный индифферентизм и так любимы прусским правительством. Но химеры слишком независимы и индивидуальны, чтобы утешать себя картинами будущего, как это делают после Гете [54] Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832), лирический поэт, драматург, философ, естествоиспытатель, наиболее крупная фигура немецкого Просвещения, оказавший очень большое воздействие на идейную жизнь XVIII–XIX веков. В раннем романе «Страдания молодого Вертера» (1774) описывает любовные страдания героя. В своем итоговом произведении «Фауст» (первая часть — 1808, вторая — 1825–1831) поднимает наиболее глубокие проблемы бытия, познания и его социальной, моральной и эстетической ценности. Герой этой трагедии Фауст стал символом движущегося вперед познания. Ему противостоит другой персонаж трагедии — Вагнер — представитель бескрылого педантизма.
и Шиллера [55] Шиллер Фридрих (1759–1805). Его юношеские свободолюбивые порывы вылились в драме «Разбойники», герой которой Карл Моор стал властителем дум многих поколений. Шиллер — автор ряда очень глубоких философских стихотворений и философско-эстетических трактатов. В конце 90-х годов ХVIII века Шиллер выступил с исторической трилогией о Валленштейне, далее он написал ряд других исторических произведений. Не меньшее, чем «Разбойники», воздействие на воззрения и настроения европейского общества ХIХ века оказала трагедия «Дон Карлос» — о судьбе испанского инфанта Карлоса, сына Филиппа II. Имя друга дона Карлоса, маркиза Позы, стало нарицательным — символом благородного самопожертвования и любви к свободе.
наши поэты и, начиная с Гегеля, наши философы. Химеры знают, что жизнь — это ни цель, ни средство, это право, и я не могу понять, почему наши прусские министры не обратили своего столь опасного внимания на этих каменных единомышленников «Молодой Германии».
Читать дальше