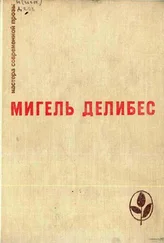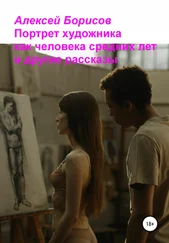“Улисс” — роман-испытание, роман-поиск: прежнее решение поставлено под вопрос. Притом важно, что в ранних эпизодах Джойс еще не сомневался в этом решении; и подвопросность, открытость назревают и появляются как еще одно расщепление, расщепление сознания самого художника — исполнителя портрета. К середине романа (хотя он и имел твердый план) уже сам автор не знает что он пишет, как напишется, как он исполнит свое задание. Задание предстает обоюдным, художник изменяется (исполняется) сам — в ходе исполнения портрета — и, в известном смысле, оказывается исполняем им.
Сквозь “Улисса” проходит, варьируясь и повторяясь, одна из формул античной мысли, обоюдная формула — действовать и претерпевать:самому действовать, но и оказываться предметом воздействия. Из этого состоит человеческое действо самореализации: мы должны побывать в обеих ролях; мы должны быть действующими, но равно и должны быть претерпевающими . Так вот, это и происходит в “Улиссе.” Автор здесь и действующий и претерпевающий.
В девятом эпизоде, “Сцилла и Харибда”, Стивен подстегивает себя, произнося в уме аристотелев, а позднее воспринятый Фомой Аквинским, девиз “ действуй и испытывай воздействие” , не забывай ни того, ни другого. Именно в такой полновесной человеческой роли и оказывается здесь автор — художник, художник, что пишет портрет художника,автор “Улисса.” Он испытует реальность и оказывается испытуем ею. Что ж получается ?
Получается неутешительный вывод. Где-то во второй части романа — трудно сказать, где совершается это преломление, в точности мы не увидим этого момента — совершается перелом: когда мы находимся уже ближе к концу романа, мы определенно знаем, что решение свершилось — решение о портрете, о человеке, об искусстве. И это решение негативное. Прежняя интуиция не подтвердилась. Портрет не написать так, как Джойс думал его написать. Чаемого индивидуального изгиба не обнаруживается.
И нам сегодня, в свете всего опыта культуры ХХ века, согласиться с таким выводом легче легкого. Мы сразу кивнем, что так оно и гораздо естественней. Почему это нужно считать ритм несущим, заключающим в себе человеческую уникальность? Каким образом он может в себе заключать индивидуальность? На ритм сегодня мы смотрим совершенно иным образом — ритмы не индивидуирующее начало в реальности, но обезличивающее. Они несут в себе что-то всеобщее. В сегодняшних компьютерах есть элементарная программка — “биоритмы”, имеющая очень мало вариаций. Включишь ее, и можно посмотреть свои биоритмы. Какая в этом индивидуальность, где она? Ее нет. Ритмом ее не уловишь. Ритмы это начало универсализующее, не откроют они тайны уникальности. Сейчас нам это сказать очень просто, и мой пример кажется весьма плоским, лишним: чего в открытые ворота ломиться? Но, тем не менее, этот вывод и есть один из главных в “Улиссе” — таким путем, а, стало быть, и никаким иным тайны личности не раскрыть,иного же пути не дано (ибо мы ничего из личностного содержания не упустили, не оставили в стороне) — и, стало быть, позитивного решения просто нет. Личности нет здесь , и ее нет нигде. Человека нет. Это есть вывод в пользу антиантропологической антропологии и эстетики. В пользу модели разложения,которая все последние десятилетия доминирует в культуре.
Равным образом, и в художественной теории и практике, и в проблемах антропологии, мы развиваем и эксплуатируем негативные сценарии . Те, кто читали Мишеля Фуко, одного из крупнейших французских философов последних десятилетий, знают: там у него отчетливо изложено многое из того, что я излагаю вам на примере Джойса. Ибо в крупном у них (и далеко не только у них) речь об одном и том же: в своем опыте, в своем поиске искусство и культура ХХ века (так получается — нарочно этого никто не хотел) с известной необходимостью приходят к антиантропологическому сценарию. Мы приходим к моделям разложения. Именно это и реализуется в ходе “Улисса.” Можно добавить, что это своеобразно отражается в культурном процессе. Последние десятилетия европейской культуры носят нетворческий, откровенно эпигонский характер. Ничего кардинально нового не добавляется ни в искусстве, ни в науке (если не говорить о естествознании), зато большие идеи и открытия, что были сделаны прежде, измельчаются и тривиализуются. Природа человека сборна, и искусство должно представлять не цельный, как думалось ранее, образ человека, но должно давать дробную и разложенную действительность человека и мира – действительность, рассыпающуюся на множество абсолютно равноценных и равноправных аспектов, лишенную всякого единящего, центрирующего стержня и нерва. Для многих работающих в современной культуре этот вывод прозвучал индульгенцией. В рассыпающейся действительности легче работать ленивому и бездарному. В прежней модели требовалась гораздо большая доля честного труда, профессионализма, протирания штанов; нагляднее были критерии, выше планки. Сегодня можно создавать себе имя и место в культуре с гораздо более слабыми данными и с меньшим трудом. Грань между оригинальным вкладом и комбинированием уже сделанного другими никогда не была стерта до такой степени.
Читать дальше