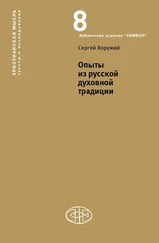***
При всех ограничивающих замечаниях в адрес предложенного нами подхода – подхода к эстетике со стороны Антропологической Границы – представляет бесспорный интерес проследить связь между художественным процессом и антропологической динамикой, понятою как эволюция доминирующей топики Границы. В заключение, мы проделаем это – конечно, не забывая, что все обнаруживаемые связи и соответствия должны пониматься лишь в смысле общих тенденций.
Grosso modo, эволюция ведущей топики хорошо известна (и описана, в частности, выше в этой книге в цикле «Шесть интенций»). Затронем сейчас лишь общий ход процесса. Долгий период ситуация характеризовалась стабильностью: доминирующее положение прочно занимала онтологическая (религиозная) топика. Первые начатки антропологической динамики принесла секуляризация европейского общества. Она создала модель безграничного мироздания и идеал бесконечного прогресса; в качестве ведущих стратегий человека стали утверждаться стратегии бесконечного миропознания и бесконечного совершенствования общества и человека на путях прогресса. Тем самым, человек эпохи Нового Времени и Просвещения сознавал и определял себя, строил свою идентичность как сущее безграничное : в стратегиях, ставших доминирующими, существование Антропологической Границы игнорировалось или прямо отрицалось; отношения Человека с Границей маргинализовались или же вытеснялись. Но Граница есть факт конституции Человека, и ее вытеснение могло быть лишь временным. Есть класс феноменов Границы, которые не являются сознательно проводимыми стратегиями, но возникают непроизвольно, если только им специально не препятствовать: это феномены (паттерны) бессознательного – неврозы, мании, фобии, в совокупности часто именуемые «феноменами безумия», в расширенном смысле слова. Постулировав безграничные могущество и самодостаточность своего разума, Человек не понимал их, игнорировал их в себе, и они бесконтрольно развивались: культ Разума с неотвратимостью увлекал Человека в царство безумия. В основном, это было судьбой ХХ века: его антропологическая суть именно в том, что произошла резкая, взрывная активизация онтической топики. По благословению доктора Фрейда, паттерны бессознательного стали успешно оспаривать роль доминирующих стратегий Границы; и в середине ХХ столетия уже отнюдь не фрейдист, а крупнейший представитель неогегельянства Жан Ипполит утверждал: «Изучение безумия находится в центре антропологии, в центре изучения человека». И наконец, в наши дни успела уже произойти следующая смена: на наших глазах на сцену выступили неведомые ранее виртуальные практики. Бурно распространяясь, сегодня они, в свой черед, уже начинают претендовать на доминирующее положение.
Нельзя не заметить, что этот антропологический процесс находит – по крайней мере, в общих крупных чертах – достаточно прямое отражение в эстетической сфере. Когда в качестве конституирующего отношения для Человека выступает отношение к Инобытию – такой Человек неизбежно стремится ставить свою художественную практику под эгиду абсолютных начал и ценностей, также связанных прямо с Инобытием. Онтологической доминанте в антропологии отвечает эстетика, себя также укореняющая в онтологии: стоящая на принципе Прекрасного, который, в свою очередь, стоит на связи Прекрасного с Инобытием. Перемены, которые приносит следующий этап, эпоха секуляризовавшегося «Человека Безграничного», на первый взгляд, не радикальны. Сообразованность художественных практик с духовной практикой, стратегиями онтологической Границы, не часто отрицается открыто; эстетика в своем мейнстриме остается идеалистическою эстетикой Прекрасного. Но тем не менее, наличие принципиальных разделяющих граней здесь несомненно. Немало анализировались, скажем, глубокие различия между художественным видением в Византии и эстетикой Ренессанса и Нового Времени, и явный учет связей художественного процесса с антропологической динамикой мог бы внести новые моменты в эту давнюю проблематику.
Зато далее корреляции антропологической и художественной динамики делаются вполне наглядными, лежащими на поверхности. Признание примата паттернов бессознательного в конституции Человека – эпоха психоанализа, и на всем ее протяжении от нее неотрывна бурная активность течений, утверждающих примат бессознательного в искусстве. Образцовым примером служит сюрреализм, который очень сознательно и старательно, специально пытался подчинять свою эстетическую практику бессознательному, объявляя назначением искусства – ловить и запечатлевать импульсы, исходящие из бессознательного. Связь с паттернами бессознательного играет первостепенную роль в подавляющем большинстве крупных течений европейского модернизма: в футуризме, дадаизме, экспрессионизме и абстрактном экспрессионизме, в неопримитивизме, равно как и у многих крупных художников, выходящих за рамки школ.
Читать дальше