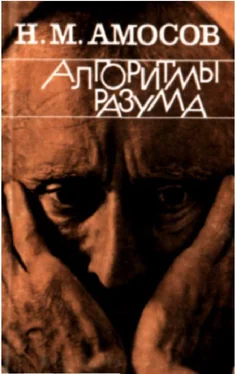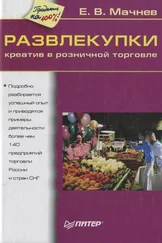Спряжение глаголов связано с понятиями времени и ощущениями действия, с отношениями того и другого. Уже говорилось, что настоящее время совпадает с моментом, когда активированы рецепторы, которые воспринимают действия. Отсюда все формы существующего в английском языке продолженного времени Continuous. Например, «I am writing» и эквивалент в русском языке «Я сейчас пишу». Обобщенное время дает нам неопределенное понятие настоящего, будущего, прошедшего. Перфектные формы означают законченное действие («Я уже сделал»). Для нас это означает, что функциональный акт завершен и это получило выражение в чувствах.
Очень интересно выражение действительного и страдательного залогов. Пусть мы произносим фразу: «Злая собака укусила кошку». Можно акцентировать любое из этих слов, и их чувственное выражение изменится. Любое слово может стать ключевым в этой фразе — и не только в словесной, но и в образной. Эти акценты мы ставим, наблюдая данную сцену. Применительно к глаголу акцент выражается в залоге: действительный залог относит глагол к собаке, страдательный — к кошке. К сожалению, бедность языка не позволяет выделить в качестве «ключевого» слова ни сказуемое, ни определение. Можно, конечно, сказать «Злая-презлая собака...», этим мы выделим при помощи ключевого слова качество злости собаки. Или еще: «Собака укусила-таки кошку»—здесь выделено сказуемое. В образном мышлении такие акценты определены активностью главного «слова» во «фразе» последовательности действий.
Склонения имен существительных и обслуживающие их предлоги — все это имеет образное выражение. Грамматические формы языка не требуют новых образных понятий, они только регистрируют сигналами речевых слов то, что врожденно задано в образах, без чего деятельность интеллекта была бы невозможна. Жалость к укушенной кошке и негодование против собаки заложены в чувствах, которые освещают зрительный образ, а речь лишь регистрирует это более или менее выразительно.
Интересно в этом плане проследить образное выражение грамматического понятия «наклонения». В английском и русском языках выделяют три наклонения: изъявительное, повелительное и сослагательное.
Повелительное наклонение выражает требование, приказ и в устной речи всегда подтверждается интонацией. Это прямое отражение управляющих воздействий интеллекта, направляемое сильными стимулами. Изъявительное наклонение скорее является отражением потребности самовыражения, без акцента на управление, и касается реальных фактов. Сослагательное наклонение отражает отношение к реальности. Я уже останавливался на этом важнейшем понятии, выступающем как качество любого события, действия, которое существенно влияет на стимулы ФА. Реальность — это одна из важнейших «координат» сознания.
Типы предложений тоже появились из образного мышления. Они известны — утверждение, отрицание, вопрос. Утверждение — положительный результат распознавания, отрицание — наоборот, а вопрос — это неизвестное, требующее исследования. Он может относиться к любой части фразы и формируется как результат анализа образа, в процессе которого производятся распознавание массы качеств, прогнозирование, вспоминание.
Всеми этими рассуждениями о грамматике я хотел показать, что существуют врожденные формы действий с моделями-образами, заложенные в структуре мозга, и что речь не придумана человеком произвольно, она лишь зафиксировала эти врожденные программы средствами внешнего выражения. Сами эти средства, в виде слов и их изменений, действительно, придуманы, и для них нет эквивалентов в природе. Наличие врожденных механизмов действий с моделями-образами доказывается одинаковостью ряда понятий, которые выражаются во всех языках, хотя и разными словесными формами. Такие понятия, как времена, пространственные и временные отношения, реальность, выделение ключевого слова во фразе, есть во всех языках. Только поэтому возможны переводы.
Как говорилось, главное мышление — образное, а не речевое. Образные картины гораздо богаче словесных, в них неизмеримо больше разнообразия, то есть информации. Если представить себе количество моделей-образов в коре, которые одновременно «живут», проявляют активность, то разве можно сравнить их с количеством слов. Передача образов словами кажется медленной, неповоротливой и невыразительной. Человек мыслит преимущественно образами, а внутренняя речь, которую мы зачастую отождествляем с мыслями, только комментирует образное мышление. Для этого достаточно понаблюдать за собой: как мы вспоминаем вчерашний день, как планируем действия, как чувствуем, и всюду — преимущественно образы.
Читать дальше