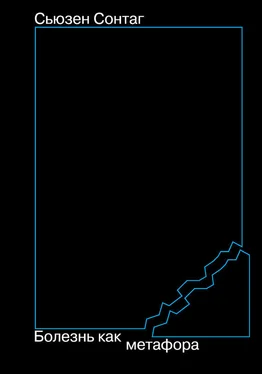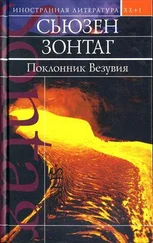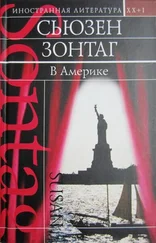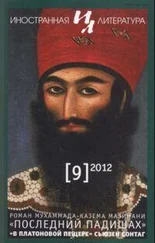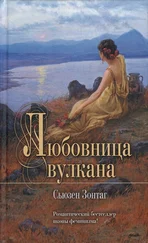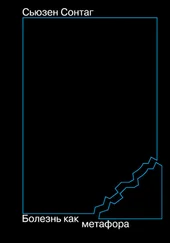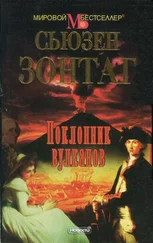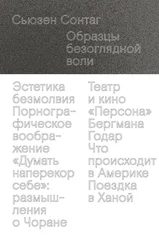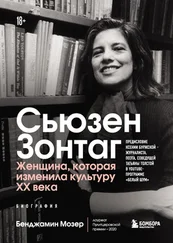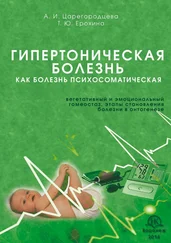1 ...7 8 9 11 12 13 ...55 Небо, одетое в серое, заложенное в складку легкими тенями; туман, стелющийся по далеким горам; отчаявшаяся природа роняет листья, что похожи на утраченные иллюзии молодости под слезами безутешного горя. <���…> Ель, стоическая в своей решимости, зеленая, одна бросает вызов этому вселенскому туберкулезу.
Однако испытать такую грусть или, как следствие ее, заразиться туберкулезом может только чувствительная личность. Миф о ТБ – это предпоследний эпизод в длительной истории стародавнего понятия о меланхолии, которая, в соответствии с учением о четырех гуморальных жидкостях, была болезнью художественных натур. Меланхолический склад характера – или туберкулез – отличали особую личность: чувствительную, творческую, одинокую. Китс и Шелли, вероятнее всего, испытывали страшные мучения, однако Шелли утешал Китса, что «чахотка – это болезнь, особенно благоволящая людям, которые пишут такие прекрасные стихи, как Вы…» Расхожие идеи, соотносившие ТБ с творческим импульсом, утвердились настолько, что в конце XIX века некий критик высказал предположение, что упадок в литературе и искусстве связан со снижением заболеваемости туберкулезом.
Миф о ТБ не только объяснял природу творческих порывов, но и послужил важной моделью богемной жизни – вне зависимости от наличия или отсутствия у «богемной личности» художественного дарования. Больной чахоткой превратился в скитальца, вечно странствующего в поисках здоровой местности. С начала XIX века ТБ становится причиной добровольного изгнания, жизни, состоящей главным образом из путешествий. (Ни путешествия, ни изолированная жизнь в санатории не считались до той поры методами лечения туберкулеза.) Сложилась целая география мест, якобы благотворных для больных чахоткой: в начале XIX века – Италия; позднее – острова Средиземноморья и южных областей Тихого океана; в XX веке – горы и пустыни. Перед нами перечень пейзажей, которые и сами по себе стали благодатной темой в искусстве романтизма. Китсу врачи советовали переехать в Рим; Шопен перепробовал острова западного Средиземноморья; Роберт Льюис Стивенсон избрал тихоокеанскую ссылку; Д. Г. Лоренс объездил полмира [16] «Любопытно, – писал Стивенсон, – что места, куда нас отправляют, когда здоровье покидает нас, часто обладают неповторимым очарованием <���…> [и], смею сказать, больной не всегда безутешен, выслушивая приговор о ссылке; он даже не склонен воспринимать пошатнувшееся здоровье как самый неприятный эпизод своей жизни». Однако опыт такого вынужденного изгнания, как отмечает далее Стивенсон, оказывался куда менее приятным. Чахоточному не удается насладиться выпавшей на его долю «удачей»: «мир для него лишен очарования». Кэтрин Мэнсфилд писала: «Кажется, половину своей жизни я провожу в странных гостиницах. <���…> Незнакомая дверь захлопывается за незнакомкой, и я ложусь в постель. Ожидая, пока выползающие из углов тени не начнут плести свою сонную, сонную паутину на уродливейших в мире обоях. <���…> Мужчина в соседней комнате болен тем же, чем и я. Проснувшись ночью, я слышу, как он ворочается. Потом начинает кашлять. После затишья начинаю кашлять я. Так продолжается долго. Пока, наконец, мне не начинает казаться, что мы два петуха, кличущие друг друга на ложном рассвете. С далеких, затаившихся ферм».
. Романтики обратили болезнь в предлог для досуга и в возможность отбросить налагаемые буржуазным обществом обязательства ради жизни в искусстве. То был способ удалиться от мира, не возлагая на себя ответственности за такое решение – такова тема «Волшебной горы». Сдав экзамены и готовясь поступить на службу в гамбургскую судостроительную компанию, молодой Ганс Касторп приезжает на три недели в санаторий в Давос, где живет его больная туберкулезом кузина. Перед самым отъездом Ганса врач обнаруживает в его легких затемнение. На горе Ганс проводит следующие семь лет жизни.
Породив так много – возможно, губительных – тенденций и превратив их в культурные идолы, миф о ТБ сопротивлялся неопровержимым доводам человеческого опыта и развивающегося медицинского знания на протяжении почти двух веков. Несмотря на определенное недовольство романтическим культом болезни во второй половине века, ТБ сохранял большинство своих романтических атрибутов – как знак высшей природы, как привлекательная немощь – до самого конца XIX и в первые десятилетия XX столетия. В «Долгом путешествии в ночь» О’Нила чахотка – все еще болезнь чувствительных молодых художников. В письмах Кафки полным-полно рассуждений о значении туберкулеза, равно как и в опубликованной в 1924 году, в год смерти Кафки, «Волшебной горе» Томаса Манна. Ирония «Волшебной горы» направлена, в первую очередь, против Ганса Касторпа, флегматичного бюргера, заболевающего туберкулезом, болезнью художников, – ибо роман Манна – это поздний, вполне осознанный комментарий к мифу о ТБ. И все же роман отражает миф: болезнь действительно ведет к духовному обновлению бюргера. Смерть от ТБ выглядела таинственной и (часто) назидательной; таковой она оставалась до тех пор, пока люди в Западной Европе и Северной Америке не перестали от нее умирать. Несмотря на резкий спад заболеваемости ТБ после 1900 года – благодаря улучшающимся гигиеническим условиям – смертность среди инфицированных оставалась высокой; миф был окончательно развеян только после обнаружения эффективных методов лечения: с открытия стрептомицина в 1944-м и изониазида в 1952 году.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу