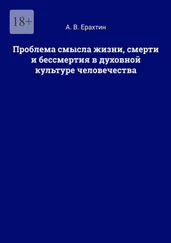Первоначальные либерально-просветительские представления о неисчерпаемых возможностях просвещения были связаны с идеалом независимой и разумной личности. Эпоха Просвещения породила культ "автономного человека", способного трезво и глубоко оценивать явления, идеи, нравственные поступки и их следствия. Рационализм и критицизм объявлялись универсальной характеристикой человека.
Пафос разума, знания и основанного на них прогресса выразился в философии Просвещения наиболее полно и отчетливо. Вневременная, неисторически понятая, всегда тождественная себе "разумность" в противоположность "заблуждениям", "страстям", "таинствам" рассматривалась просветителями как универсальное средство совершенствования общества. Прогресс осмыслялся ими как результат распространения истинных идей, которые постепенно устраняют загадки и чудеса мира, пропитывая его светом разумности.
Высоко оценивая разум отдельной личности, идеологи Просвещения видели причину рационального поведения индивида, его разумности в "человеческой природе". Но эти антропологические посылки не получили у мыслителей XVIII века сколько-нибудь последовательного разъяснения. Разумность как критерий всеобщей связи между людьми не обосновывалась, а постулировалась.
Разумеется, просветители уделяли значительное внимание человеческой субъективности, то есть таким компонентам внутреннего мира личности, как разум, чувства, воля. Однако особый акцент они делали именно на разуме, который будто бы обеспечивает относительную цельность личности, отвращая ее от пороков, страстей и других проявлений эмоций. Это не позволяло мыслителям Просвещения последовательно раскрыть проблему человеческой индивидуальности.
С одной стороны, уже в середине XVIII века Ж.-Ж. Руссо подверг секуляризации идею Последнего Суда, то есть исповедь, которая одушевлена покаянием перед Богом за совершенные грехи. Руссо истолковал покаяние как акт человеческого поведения, совершаемого не для Бога, а для себя самого. Желание получить признание и прощение у своих собратьев устраняло религиозное чувство оправдания, избавления от грехов милостью Божией. Рождалось совсем иное переживание, сопряженное с поиском понимания у другого человека. Так в европейской литературе возникают письма, исповеди, дневники, автобиографии, которые требовали от их автора и от того, к кому они обращены, чтобы те были индивидуальностями, способными понять мир человеческих признаний, откровений.
Именно с периода ранних буржуазных революций в европейской философии началось неслыханное возвышение личности. Глубинный смысл Великой французской революции 1789 года в том, что она утвердила великие принципы свободомыслия, которые вошли в плоть и кровь мировой культуры. Она интегрировала в себе плоды Реформации и Просвещения, которые подготовили глубокие интеллектуальные и нравственные повороты в истории.
Блестящая плеяда выдающихся мыслителей (Вольтер, Руссо, Монтескье, Гельвеций) с присущим им блеском показывали, что старый порядок, пронизанный аморализмом и лицемерием, вырождением правящих элит, мертвящим догматизмом и схоластикой, противоречит разуму, находится в конфликте с самой природой человека, его стремлением к гармоничному обществу, свободному от сословного неравенства и монархического произвола, обществу, в котором частный интерес каждого совпадал бы с общечеловеческими интересами.
Вместе с тем в эпоху Просвещения идеал личности обнаружил свою ограниченность. Не случайно современные "новые философы" во Франции полагают, что вся новая европейская философия приписывает суверенитет только общинам и народам. Философия Просвещения, по их мнению, видит в отдельном человеке полусущество, нулевой уровень человечества. Народ же, рассматриваемый как абсолютный суверен, требует истолкователя своей воли, и этот истолкователь становится тираном, как им был Робеспьер. Несомненно, в этих рассуждениях схвачено зерно будущих концептуальных противоречий в осмыслении человека.
П. С. Гуревич, И. Т. Фролов
Книга подготовлена силами исследовательского коллектива под руководством академика И. Т. Фролова. К работе были привлечены не только философы, но и известные историки, филологи, религиоведы. Каждый раздел и главы внутри разделов имеют в качестве кураторов специалистов по отдельным эпохам и проблемам, которые помогали в подборе текстов, в определении их научной ценности и представительности, писали предисловия и комментарии.
Читать дальше



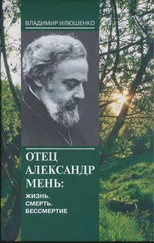

![Елизар Лазовский - Прошлая настоящая жизнь [litres]](/books/396653/elizar-lazovskij-proshlaya-nastoyachaya-zhizn-litres-thumb.webp)