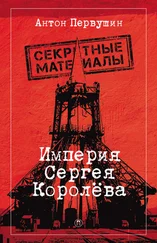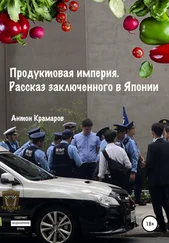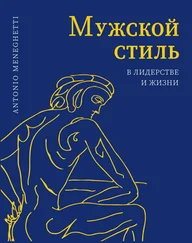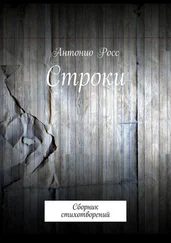"Время от времени я, как и всякий другой, устаю от лозунга "постмодерн", но всякий раз, как у меня возникало искушение выразить сожаление по поводу моей с ним связи, пожаловаться на злоупотребления им и на его дурную славу и заключить с некоторой неохотой, что оно создает проблем больше, чем решает, я застывал в недоумении, по поводу того, может ли какое-либо другое понятие выразить стоящие перед нами проблемы столь действенным и кратким способом". Fredric Jameson, Postmodernism, or, The Cultural Logic of Late Capitalism (Durham: Duke University Press, 1991), p. 418.
Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times (London: Verso, 1994).
Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times (London: Verso, 1994), p. 332.
См.: James Devine, "Underconsumption, Over-investment, and the Origins of the Great Depression", Review of Radical Political Economics, 15, no. 2 (Summer 1983), 1-27. Об экономическом кризисе 1929 г. см. также классический анализ Джона Кеннета Гэлбрейга в его работе The Great Crash, 1929 (Boston: Houghton Mifflin, 1954), где внимание фокусируется на биржевых спекуляциях как причине кризиса. Среди вышедших позже работ см.: Gerard Dumenil, D. Levy, La dynamique du capital: un siecle d'economie americaine (Paris: PUF, 1996). В более общем плане о теоретических проблемах, поставленных кризисом 1929 г. перед политической экономией XX века, см.: Michel Aglietta, A Theory of Capitalist Regulation, trans. David Fernbach (London: New Left Books, 1979); а также Robert Boyer and Jacques Mistral, Accumulation, inflation, crises (Paris: PUF. 1978).
Джон Мейнард Кейнс был, пожалуй, самым дальновидным участником Версальской конференции. Уже на самой конференции и позднее в своем очерке "Экономические последствия мира" он осудил политический эготизм победителей, который стал одним из факторов, способствовавших возникновению экономического кризиса 1920-х гг.
Такой тип объяснения экономического и политического кризиса 1929 г. должен быть решительно противопоставлен "ревизионистским" историографическим концепциям в духе Франсуа Фюре, Эрнста Нольте и Ренцо де Феличе. Его сторонники показывают важное значение экономического элемента в определении путей политического развития в XX веке. Ревизионистские концепции, наоборот, рассматривают события XX века как линейный процесс развития идей, часто находившихся в диалектическом противостоянии друг другу, с полюсами, представленными фашизмом и коммунизмом. См., например: Francois Furet, Le passe d'une illusion: essai sur l'idee communiste au ХХe slide (Paris: Robert Laffont, 1995), особенно главу, в которой автор обсуждает взаимоотношения между фашизмом и коммунизмом (pp. 189–248).
См.: Jon Halliday, A Political History of Japanese Capitalism (New York: Pantheon, 1975), pp. 82-133.
Представители американской "либеральной" историографии, и среди них Артур Майер Шлезингер, более других настаивали на составном характере американского прогрессизма. См. его Political and Social Growth of the American People, 1865–1940, 3rd ed. (New York: Macmillan, 1941). См. также: Arthur Ekirch, Jr., Progressivism in America: A Study of the Era from Theodore Roosevelt to Woodrow Wilson (New York: New Viewpoints, 1974).
Эту основную линию развития прослеживают Мишель Аглиетта (Michel Aglietta) в своей книге A Theory of Capitalist Regulation и Бенжамен Корья (Benjamin Coriat) в работе Vatelier et le chronometre (Paris: Christian Bourgois, 1979). См. также: Antonio Negri, "Keynes and the Capitalist Theory of the State", in Michael Hardt and Antonio Negri, Labor of Dionysus (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1994), pp. 23–51; и "Crisis of the Planner-State: Communism and Revolutionary Organisation", Revolution Retrieved (London: Red Notes, 1988), pp. 91-148. Добротный анализ Нового курса и кейнсианства также содержится в работе Сюзанны де Бронхофф (Suzanne de Brunhoff) The State, Capital, and Economic Policy, trans. Mike Sonenscher (London: Pluto Press, 1978), pp. 61–80.
Понятие дисциплины, разработанное Мишелем Фуко, конечно же, имеет несколько иное смысловое ударение, чем термин, используемый нами в данной работе, но мы опираемся на те же практики и ту же всеобщность его применения. Основные теоретические соображения Фуко заключаются в том, что дисциплина насаждается посредством институциональных структур; что сила дисциплины заключена не в некоем главном источнике, но в тончайших образованиях, возникающих там, где она применяется; и что субъективности производятся посредством усвоения дисциплины и реализацию ее практик. Все это в полной мере соответствует нашим представлениям. В центре нашего внимания, однако, находится вопрос о том, насколько практики и дисциплинарные отношения, которые рождаются в рамках режима производства, покрывают все социальное пространство в качестве одновременно механизма производства и управления, то есть как режим общественного производства.
Важнейший труд, описывающий этот процесс и предсказывающий его последствия, принадлежит Максу Хоркхаймеру и Теодору Адорно и был написан в середине 1940-х гт. — Диалектика Просвещения (Адорно Т., Хоркхаймер М., Диалектика просвещения [М.: Ювента, 1996]). Многочисленные работы также посвящены описанию дисциплинарного общества и его неумолимого перерастания в "биополитическое общество"; эти работы, опирающиеся на различные культурные и интеллектуальные традиции, полностью согласуются между собой в определении главной тенденции. Два наиболее влиятельных и содержательных полюса в этой линии исследований сформированы работами Герберта Маркузе (Маркузе Г., Одномерный человек [М.; Киев: Refl books, 1993]), которого мы могли бы назвать представителем "англо-германского" полюса, и Мишеля Фуко (Фуко М., Надзирать и наказывать [М.: Ad Marginem, 1999]). которого можно отнести к "латинскому" полюсу.
Читать дальше

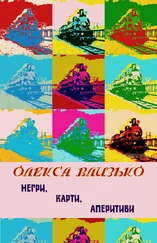
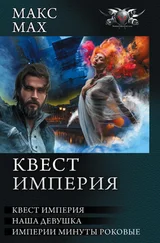
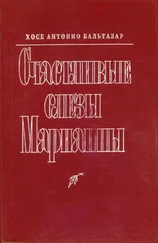
![Брайан Стэблфорд - Империя страха [Империя вампиров]](/books/337275/brajan-steblford-imperiya-straha-imperiya-vampirov-thumb.webp)
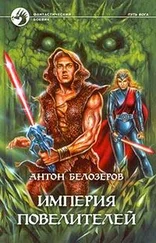

![Антон Емельянов - Старая империя [СИ]](/books/402108/anton-emelyanov-staraya-imperiya-si-thumb.webp)