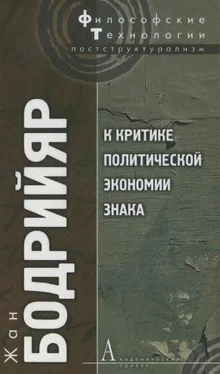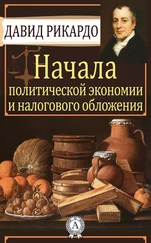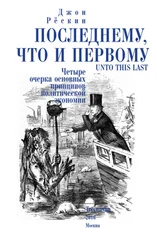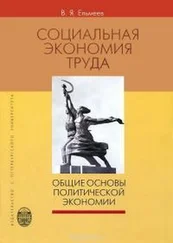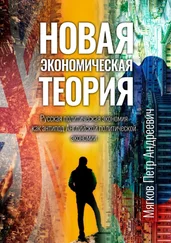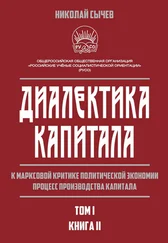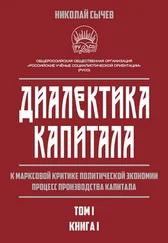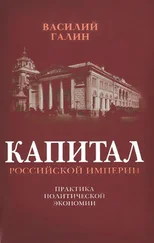и прямое наименование, отплатили ему репутацией теоретического террориста и интеллектуального провокатора, заслонив и заместив его самого (в той степени, конечно, в какой он — сам по себе — существует) саморепрезентирующейся искрометной завесой. Но если попытаться возжелать все-таки заглянуть за эту завесу, то лучше, наверное, обратиться к истокам его концепций…
Василий Кузнецов
К критике политической экономии знака
Функция-знак и классовая логика
I. Социальная функция предмета-знака
Эмпиристская гипотеза: потребности и потребительная стоимость
Анализ социальной логики, которая упорядочивает практику предметов, распределяя их по различным классам или категориям, должен в то же самое время являться критическим анализом идеологии «потребления», которая в настоящее время подкрепляет любую относящуюся к предметам практику. Этот двойной анализ — анализ различающей социальной функции предметов и анализ политической функции идеологии, которая с ней связана, — должен исходить из одной абсолютной предпосылки: из отмены само собой разумеющегося рассмотрения предметов в терминах потребностей, отмены гипотезы первичности потребительной стоимости.
Эта гипотеза, поддерживаемая очевидностью обыденной жизни, приписывает предметам функциональный статус, статус утвари, связанный с техническими операциями, относящимися к миру, и даже — тем самым — статус опосредования антропологических «природных» потребностей индивида. В такой перспективе предметы в первую очередь зависят от потребностей, приобретая смысл в экономическом отношении человека к окружающей среде.
Эта эмпиристская гипотеза неверна. Дело обстоит совсем не так, словно бы первичным статусом предмета был прагматический статус, на который лишь затем накладывалась бы социальная знаковая стоимость [1] La valeur у Бодрийяра часто имеет сразу несколько значений — «стоимости», «ценности» и собственно «значения», «значимости». В зависимости от контекста дается различный перевод этого термина. — Прим. пер.
— наоборот, фундаментальным является знаковая меновая стоимость, так что потребительная стоимость подчас оказывается просто ее практическим приложением (или даже простой рационализацией): только в такой парадоксальной форме социологическая гипотеза оказывается верной. В своей несомненной очевидности потребности и функции описывают, в сущности, лишь некий абстрактный уровень, явный дискурс предметов, по отношению к которому фундаментальным является социальный дискурс, остающийся по большей части бессознательным. Истинная теория предметов и потребления должна основываться не на теории потребностей и их удовлетворения, а на теории социальной демонстрации и значения.
Символический обмен: кула и потлач [2] Потлач — традиционный праздник индейцев Северной Америки, во время которого было принято уничтожать большое количество материальных ценностей. — Прим. пер.
Несомненно, отсылка к примитивным обществам может быть опасной, но тем не менее стоит вспомнить, что первоначально потребление благ (продовольствия или предметов роскоши) не соответствует никакой индивидуальной экономии потребностей, но является социальной функцией почета и иерархического распределения. Первоначально оно возникает не из жизненной необходимости или «естественного права», а из культурного принуждения. Короче говоря, оно является неким институтом. Необходимо, чтобы блага и предметы производились и обменивались (порой в форме насильственного распространения), дабы стала видимой социальная иерархия. У жителей Тробриандских островов (Малиновский) существует радикальное различие между экономической функцией и функцией / знаком: существует два класса предметов, на которых выполняются две параллельные системы — кула, система символического обмена, основанная на кругообороте, обращающемся даре браслетов, колье, украшений, так что вокруг этой системы организуется социальная система значимости и статуса, и гимвали, торговля обычными благами.
Такое разделение исчезло из наших обществ (хотя и не полностью — приданое, подарки и т. д.). Тем не менее за всеми надстройками покупки, рынка и частной собственности в нашем выборе предметов, их накоплении, потреблении и обращении с ними всегда необходимо вычитывать механизм социальной демонстрации, то есть механизм различения и почитания, который лежит в самой основе системы ценностей и присоединения к иерархическому порядку общества. Кула и потлач исчезли, но не их принцип, который мы будем удерживать в качестве основания теории предметов, — этот принцип становится все более и более значимым по мере умножения и дифференциации предметов: дело не в отношении к потребностям, в потребительной стоимости, а в символической ценности обмена, социальной демонстрации, конкуренции и в пределе классового различения— вот фундаментальная концептуальная гипотеза социологического анализа «потребления».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу