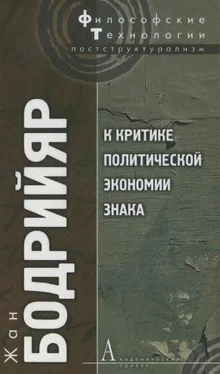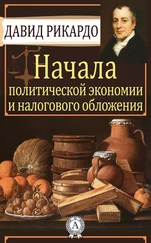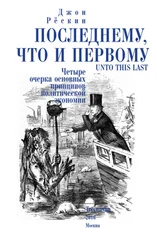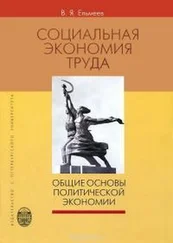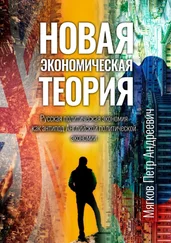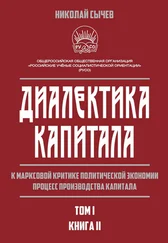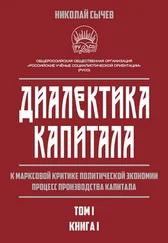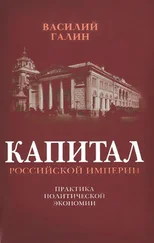Тем не менее возможный пользователь теории — то есть, попросту говоря, ученый — попадает в неловкое положение: предлагаемая теория заведомо ставится под сомнение именно в том пункте, в котором она осуществляет свою теоретическую операцию. Следует ли вообще каким-то образом оценивать теории Бодрийяра, искать их ценность или стоимость? Можно ли принять теории Бодрийяра за чистую монету, или же эта монета фальшива? Сложность ситуации как раз в том и состоит, что мы не можем знать этого наверняка — если монета и фальшива, то ее все равно можно пустить в оборот [74]. Естественно, никто не собирается навязывать требующим рассмотрения теориям некие идеалы или несомненные параметры научности и рациональности (по отношению к теории, подвергающей жесткой критике научную рациональность как таковую, это было бы не очень-то остроумно). Но даже если предложить модель более имманентного движения внутри текстов и теорий, то окажется, что теория (теории) Бодрийяра требуют проведения по отношению к самим себе тех процедур, которым они подвергают остальные теории (и весь культурный материал в целом). Но такой путь — путь, к которому они нас приглашают, — при всей своей мнимой изощренности не может обещать слишком многого: даже если вдруг окажется, что эти теории «неверны», то есть в каком-то пункте или на каком-то «фактическом» материале (обнаружение которого весьма сомнительно) невыполнимы, сам факт применимости к ним исследовательских принципов, из них вытекающих, служил бы их косвенным подтверждением. Если рассматриваемая теория — лишь один плавающий знак среди остальных, и она открыто говорит об этом, то вся ее «неистинность» служит лишь ее подтверждением. Саморазоблачение теоретического описания оборачивается подтверждением общего тезиса о симулятивной игре теории, так что и само описание становится верным. Ситуация оказывается обратной по отношению к известным анекдотам, построенным по модели «лжи правдой» («Вы говорите, что едете в Одессу, чтобы я думал, что Вы едете не в Одессу; но Вы действительно едете в Одессу, так зачем же Вы врете?»). Дискурсивная парадоксальность «плавающих теорий» в том, что они — несмотря на свое опровержение, данное уже на самом первом шаге их действия, — никак не хотят тонуть, предпочитая, скорее уж, плавать под водой. В этом отношении их использование мгновенно становится тотальным и самоподтверждающим, а их критика — или невозможной, или неявно их подкрепляющей. Само собой напрашивающийся выход как будто прост — нужно не стремиться «использовать» или «критиковать» теорию, а просто дать ее волнам увлечь себя, положиться на взаимосвязь теоретического плавания. Собственно, такой стиль рассмотрения уже успел стать общепринятым — стиль, представляющий собой некую смесь истории, герменевтики, биографии и социальной публицистики. Он, несомненно, имеет определенные преимущества. Более того, можно даже указать, что он является «смесью» лишь при его последовательном «разложении», исследовательском произволе, тогда как сам по себе он может быть единственно возможным «эквивалентом» мысли и опыта мысли. Единственное, что можно сразу же заметить, — это проблема самой «эквиваленции» в отношении с теорией, которая как раз ставит вопрос о разных логиках «стоимости» и, следовательно, о разных логиках ответа и обмена. Будет ли наиболее «адекватным» и эквивалентным ответом на теории Бодрийяра ответ, построенный по логике эквивалентности, то есть ответ, пытающийся разменять эти теории на их собственную биографию — герменевтическую или историческую? Достаточно ли в таком случае сделать из теории ее собственный текст, пусть он ни B t коей мере и не ограничивается ее словами?
Складывающаяся с теорией Бодрийяра ситуация постепенно теряет видимую простоту. Дискурсивно-монетарная логика рассмотрения такого рода теории заранее выносит ей приговор, поскольку теория эта подрывает свои собственные референциальные возможности, заявляя о том, что теоретическое вообще не имеет никакого отношения к таким возможностям [75]. Налицо простое перформативное противоречие — и дело с концом. Имманентное прочтение (при всей неопределенности этого герменевтического термина) теории не добавляет к ней ровным счетом ничего, поскольку в любом случае невыполнение ее постулатов обратимо в выполнение — благодаря тому, что постулируется симулятивность особого рода, так что нельзя сказать, насколько симулятивны сами эти постулаты: если в самом описании описание и описательность отрицаются, но сама теория ни в коей мере не теряет своей валидности, то это говорит лишь о точности ее описания, то есть о том, что описание более не играет никакой роли. Остается, как уже было указано, движение «вровень» с самой теорией, то есть вровень с той поверхностью, по которой она плавает (причем поверхность ничем не отличается от плавающего на ней). Истина теории не имеет уже ничего общего с «пользовательской» или потребительской истиной ее референта, она равна своему равенству и своей подвижной эквивалентности другим теориям и другим знакам (причем в роли знаков, естественно, выступают не только знаки языка). Но такой «эквивалентный» подход упускает один момент теории, причем само упущение может быть замечено лишь в качестве некоего призрака установленной системы обмена теоретического (подобно тому, как в экономическом обмене возникает эффект обмена «шила на мыло», связанный с законом стоимости как законом эквивалентности). Это упущение относится к «критике», заключенной внутри теории, которая не мыслит себя иначе как «критической». Не меньше, чем критическую теорию Маркса, теория Бодрийяра напоминает «критику» Канта, особенно в пункте, который касается знаменитого «освобождения» места, снятия науки в пользу религии (при той поправке, что у Бодрийяра речь, конечно, не идет ни о науке, ни о религии). Дело в том, что критика в данном случае оказывается описанием границ знака и знаковой стоимости (завершающей сам процесс стоимости как таковой) — и одновременным полаганием границ, обозначающим обнаружение места обитания и действия современного знака, и ограничением, которое должно оставлять что-то «за границами». Необходимость «теоретического плавания» учитывает лишь первый момент критики, поэтому такое отношение к Бодрийяру можно было бы сравнить с неокантианским продолжением Канта, сведенным к научной методологии. Теория Бодрийяра всегда постулирует тотальность знакового обмена лишь в критическом режиме, тогда как ответ на этот критический режим всегда оказывается «некритическим». Другими словами, описание знаковой стоимости как тотальной сферы современного обмена превращается у последователей и исследователей Бодрийяра в некий культурный императив, который тем легче выполнить, что он является самой логикой системы, которая у Бодрийяра подвергается постоянной критике. Знаковый симулятивный обмен покрывает любую критику, направленную на него, но стоит ли из такого «покрытия» делать методологический, а то и моральный принцип отношения к критической теории? Ситуацию с теорией у Бодрийяра легко было бы проинтерпретировать в партийных терминах — в таком случае господствующее отношение к этим теориям представляется не чем иным, как тем обычным социал-демократическим уклонением от радикальной критики, которым как раз и определяется как политическая, так и научная социал-демократия. Но в действительности такая политическая и партийная интерпретация, стремящаяся как можно быстрее обнаружить симптомы ревизионизма и меньшевизма, не принимает всерьез всей сложности выполнения «критического» посыла теории у Бодрийяра. Сравнение с Кантом могло бы привести к следующим задачам: как быть с практическим разумом самой теории, если ему отказано быть разумом, иначе говоря, если любое теоретическое обсуждение критического содержания лишает его всей критичности, обрекая на бесконечное странствие — странствие знака среди других знаков? Критика не может получить «обоснования» в критической теории, наоборот, теория — по своей практике — неизбежно работает против своего собственного критического содержания. Такое рассогласование говорит, естественно, о несостоятельности теории и о необходимости ее пересмотра, который требует изгнания невыполнимого критического содержания. Но подобная элиминация делает саму теорию излишней.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу