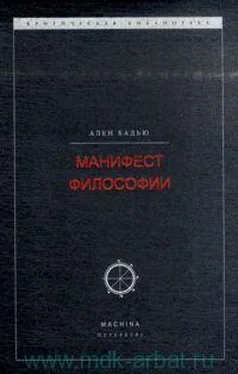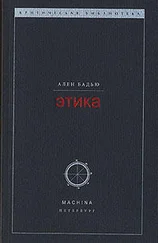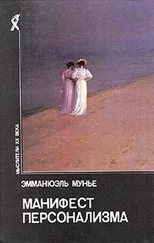По сути, над нами все еще довлеет знаменитая формула Гегеля: «История мира — это также и трибунал мира». История философии более, чем когда-либо, является сегодня трибуналом философии, и этот трибунал почти постоянно выносит вердикт о смертном грехе: вердикт о закрытии или необходимой деконструкции метафизического прошлого и настоящего. Можно сказать, что генеалогический метод Ницше, как и герменевтический метод Хайдеггера, предложили по этому поводу лишь варианты установки Гегеля. Ибо для Ницше, как и для Хайдеггера, справедливо, что всякая мысль, объявляющая себя философской, прежде всего должна быть оценена в рамках историчностного монтажа, движущую силу которого и тот, и другой обнаруживают у греков. И для того, и для другого партия разыгрывается, первый шаг делается в том, что происходит между досократиками и Платоном. Первое предназначение мысли было тут утеряно и подавлено, и эта-то утрата и направляет нашу судьбу.
Я предлагаю вырвать философию из рамок подобного генеалогического императива. Хайдеггер полагает, что мы историчностно направляемы забвением бытия и даже забвением этого забвения. Со своей стороны, я предложу некое насильственное забвение истории философии, то есть некое насильственное забвение всего историчностного монтажа забвения бытия. Некое «забудьте забвение забвения». Это императивное забвение является методом и, конечно же, отнюдь не неведением. «Забыть историю» прежде всего означает принять мыслительные решения, не обращаясь к их предполагаемому историчностно предписанному смыслу. Речь идет о том, чтобы порвать с историцизмом, чтобы вступить, как когда-то сделали Декарт или Спиноза, в самостоятельное узаконение дискурса.
Философия должна принять аксиомы мысли и извлечь из них следствия. Лишь тогда — и исходя из своей внутренней обусловленности — она призовет свою историю.
Философия должна самоопределиться таким образом, чтобы она сама судила свою историю, а не ее история судила ее.
Подобная операция забвения истории и аксиоматического изобретения предполагает сегодня согласие определить философию. Точнее, определить ее иначе, а не через ее историю, иначе, а не через судьбу и упадок западной метафизики. Посему я предложу третью форму своего тезиса, на сей раз решительно утвердительную.
3. Существует определение философии.
Добавлю, что, на мой взгляд, это определение само является историческим инвариантом. Это не определение в терминах результата и не производство утраты смысла; это собственное, присущее ей определение, благодаря которому — со времен Платона — можно отличить философию от того, что ею не является. И, в частности, отличить ее от того, что ею не является, но напоминает, очень ее напоминает и со времен Платона зовется софистикой.
Вопрос о софистике чрезвычайно важен. От самых истоков софист является враждебным братом, непримиримым близнецом философии. Сегодня философия, претерпевающая свою историчностную болезнь, крайне слаба перед лицом современных софистов. Чаще всего она даже рассматривает великих софистов — ибо софисты бывают великими — как великих философов. Точно так же, как если бы мы считали великими философами античности не Платона и Аристотеля, а Горгия и Протагора. Положение, впрочем, все чаще и чаще, причем с блеском, выдвигаемое современными историографами античности.
Кто же такие современные софисты? Современные софисты — это те, кто, пройдя школу великого Витгенштейна, придерживаются взгляда, что мысль подчинена следующей альтернативе: либо эффекты дискурса, языковых игр, либо молчаливое указание, чистый «показ» того, что изъято из языковой хватки. Те, для кого фундаментальна противоположность не между истиной и заблуждением или блужданием, а между речью и молчанием, между тем, что можно сказать, и тем, что сказать невозможно. Или между высказываниями, наделенными смыслом, и высказываниями, его лишенными.
Во многих отношениях то, что представляет себя в качестве наисовременнейшей философии, является могущественной софистикой. Она ратифицирует заключающее «Трактат» высказывание — «О чем невозможно говорить, о том следует молчать», — тогда как философия только для того и существует, чтобы утвердить: то, о чем невозможно говорить, как раз и является тем, о чем она берется сказать.
Мне возразят, что в своем сущностном движении современный дискурс тоже хочет порвать с историцизмом, по крайней мере в форме марксизма или гуманизма; что он противостоит идеям прогресса и авангарда; что он вместе с Лиотаром заявляет: эпоха великих повествований завершена. Безусловно. Но этот дискурс выводит из своего «постсовременного» отвода лишь своего рода общую эквивалентность дискурсов, возведенную в правило виртуозность и косвенность. Падением исторических повествований он пытается компрометировать саму идею истины. Его критика Гегеля является на самом деле критикой самой философии в пользу искусства, или права, или некоего незапамятного и несказанного Закона. Вот почему нужно заявить, что этот дискурс, который подстраивает многообразие регистров смысла под какой-то безмолвный коррелят, есть не что иное, как современная софистика. Тот факт, что подобный, вполне продуктивный и виртуозный дискурс принимают за философию, демонстрирует неспособность философа твердо провести сегодня основополагающее размежевание между собой и софистом.
Читать дальше