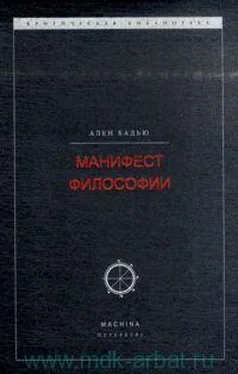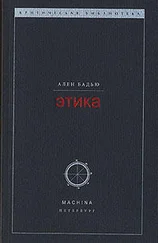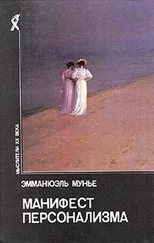К этой книге, к серьезности и строгости ее поэтики (с мыслью о Беньямине, я имею в виду: к суровости ее лишенной ауры прозы; но последовательный отказ от ауры, как, возможно, мы начинаем сегодня понимать, определяет невероятность самой поэзии), к — неустрашимому — потрясению того, чем в ней рискуется, я чувствую себя (или, скорее, знаю), даже если это должно удивлять, очень близким. Не только потому, что, слабый в матеме, хочу ей обучиться (матейн). Но потому, что мысль никак не может обойтись без эмоции, когда видит, что пробуждается та потрясающая сила, которая связана со всяким «нет» полному подчинению. Это великая книга просто потому, что она свободна.
Я заявляю об этом только для того, чтобы думать о ней, ничем себя не ограничивая. Но все же об этом заявляю.
И, поскольку я должен ввести в нашу дискуссию, теперь я не буду отклоняться от правила: я кратко разъясню это «все же».
(В логике, которую, как мне кажется, я сумел выявить в одной из самых великолепных проз, в поэзии Гельдерлина, самое близкое — это и самое далекое; и я рискнул назвать это гипербологикой, несводимой к какой-либо диалектизации, этой всегда возобновляемой заранее логике долговечного рабства. Это «все же» — то же самое: самое близкое-далекое: свобода.)
Какую-то форму этого «все же» я могу отбросить сравнительно быстро. Но это не происходит столь просто, как можно было бы подумать, вокруг имени Хайдеггера.
Конечно же, я подписываюсь под хайдеггеровским указанием на «закрытие метафизики» («конец философии»), даже если не узнаю себя в «большой современной софистике, которая прибегает к доводу об упадке целокупностей, чтобы с виртуозным тщанием обосноваться в свободной полиморфной игре языков». Но если я подписываюсь под этим указанием, то только исходя из этого мне и кажется справедливым утверждать, что более не осталось возможных тезисов о бытии, иными словами, более нет возможного установления бытия. А ведь как раз это и можно выявить в начале того, что пытается сделать Бадью, — справедливо или нет, скажет он сам. Но если я правильно понимаю, математика, будучи единственным дискурсом о бытии как таковом, неукоснительно уклоняется от любого определения бытия, которое сведено ею к своей — даже не так, к вообще несостоятельной множественности.
И еще, конечно же, я, по-видимому, нахожусь на стороне поэмы, а не матемы. Но помимо того, что поэма сплошь и рядом выживает у Бадью — и поэма, из-за которой я чувствую, как меня призывают к ответу, обычно как раз и есть та самая, что выжила, — я хотел бы просто сделать походя одно предостережение: мысль, посвятившая себя поэме — а это не только мысль Хайдеггера, но и мысль европейского романтизма, начиная с «Атенеума» и Шеллинга, — возможно, посвятила себя мифеме. Что я мог бы продемонстрировать, но не в этот утренний час.
И это все меняет. Ведь именно, то есть по сути, тут эта мысль проявила свою катастрофичность, принимая во внимание безнадежные чаяния эпохи или, как сказал Бадью, ее «дезориентацию». И, следовательно, привела в отчаяние, принимая во внимание то испытание истины, каким является политика.
Наконец, ничто, конечно же, мне так не чуждо, как идея «покончить» с Хайдеггером — его «ликвидировать» (над чем и без того достаточно суетятся со всех сторон).
Этот отказ не является просто моей формой верности тексту, по которому я научился — немного — философствовать (я так и говорю: тексту; я не знал человека и думаю, по здравом размышлении, что я выражался по этому поводу вполне определенно).
Но на деле с полной охотой подписываюсь под примечанием на странице 521, которое вкратце сюда подверстаю:
«Высказывание „Хайдеггер является последним повсеместно признанным философом“ читается, отнюдь не сглаживая факты: вовлеченность с 1933 по 1945 год Хайдеггера в нацизм и еще более его упрямое и тем самым сознательное молчание об уничтожении европейских евреев.
Из этого единственного пункта выводится, что даже если принять, что Хайдеггер был мыслителем своего времени, в высшей степени важно выйти, прояснив, чем же они были, и из этого времени, и из этой мысли».
Я подписываюсь под этим с двумя оговорками:
— я не думаю, что Хайдеггер был полнее — или дольше — нацистом, чем ты маоистом — или, следуя молве, и того хуже. И я, само собой разумеется, не смешиваю нацизм и маоизм, даже если и в том, и в другом случае, как и во всем нашем веке, речь идет о кровавой «культурной революции»;
— «выйти»: я не знаю, возможно ли «выйти», хотя и хотел бы сделать тот шаг, который ты предлагаешь сделать. Вновь тебя цитирую:
Читать дальше