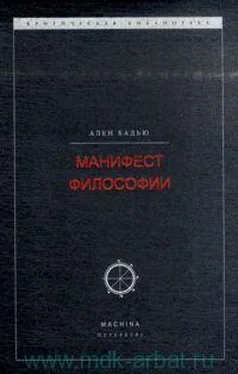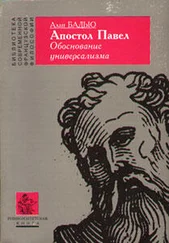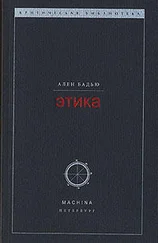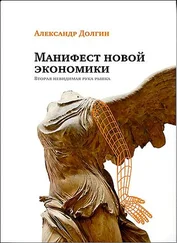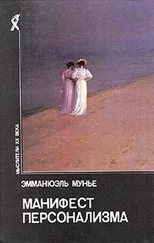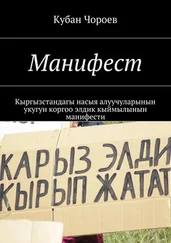В своей господствующей канонической форме предложил свой шов и марксизм: подшить философию к ее политическому условию, В этом вся двусмысленность знаменитого тезиса о Фейербахе, который якобы заменяет «истолкование» мира его революционным преобразованием. На политику здесь философски указывается как на единственный способ сформировать на практике общую систему смысла, философия же обречена на постепенное упразднение. То, что политика (впрочем, широко отождествляемая Марксом с реальным движением Истории) есть конечная форма суммирования опыта, вместе с другими условиями отстраняет и саму философию, которая намеревалась вписать в этот опыт совозможность с политикой. Хорошо известна неприязнь Маркса и марксистов ко всему, что касается художественной деятельности, особенности которой им так и не удалось осмыслить — равно как и уважить изобретательное рвение. Что касается влияния истины полового различия, оно в конечном счете оказалось дважды затуманено: и сталинским пуританизмом, и неприязнью к психоанализу (единственной, на мой взгляд, настоящей современной попытке концептуализировать любовь).
С научным же условием все не так просто. Маркс и его последователи, в этом — данники господствующего позитивистского шва, не переставали утверждать, что поднимают революционную политику на уровень науки, Они поддерживали двусмысленность между «наукой Истории» — историческим материализмом — и подчиненным движением Истории со стороны политики. Они с самого начала противопоставляли свой «научный социализм» всевозможным «утопическим» социализмам. Таким образом, можно считать, что марксизм скрестил два шва, политический и научный, В общем-то именно эту сложную сеть двойного пошива и называет «философией» — или диалектическим материализмом, — в частности, Сталин. В результате вышеозначенная «философия» предстает в виде странных «законов», «законов диалектики», двусмысленно приложимых и к Природе, и к Истории.
Но поскольку в «материалистическом» видении наука препровождается к своим технико-историческим условиям, над сочленением двойного шва в конечном счете господствует политика, каковая только и может включить в целое также и науку, что становится очевидным, когда тот же Сталин от имени пролетариата или его партии берется диктовать законы генетике, лингвистике или теории относительности. Эта ситуация вызвала столь запутанный философский паралич, что, когда в шестидесятые годы Луи Альтюссер взялся вернуть марксистской мысли действенность, единственный выход, который он увидел, — перевернуть сочленение двух швов в пользу науки и сделать из философского марксизма нечто вроде эпистемологии исторического материализма. Нигде навязчивость швов в философии того времени не заметна так, как в предпринятом Альтюссером героическом усилии переправить марксизм под научный шов философии: он отчетливо понимал, что господство подшития к политическим условиям еще вреднее. За эту операцию по переносу пришлось платить, по-прежнему препоручая политику столь подозрительному и обветшалому органу, как КПФ, что опять же мешало охватить ее мыслью. После нескольких начальных успехов философский прорыв сел на мель событий 68-го, именование которых мыслью во всем превышало ресурсы научных условий и жестоко выставило напоказ историческую отсталость КПФ.
В конечном счете я выдвигаю следующий тезис: если философия, начиная, вероятно, с Гегеля, кружит в своей мучительной неопределенности по кругу, то дело тут в том, что она — пленница сети швов, пришитая к своим же условиям, в первую очередь к научным и политическим, которые препятствуют ей сформировать их общую совозможность. Тем самым что-то свойственное нашему времени от нее заведомо ускользнуло, и она отражает себя же искаженным и ограниченным образом.
Безошибочный признак, по которому распознается, что на философию умаляюще воздействует подшитие к одному из ее родовых условий, — монотонно повторяемое высказывание, согласно которому «систематическая форма» философии отныне невозможна, Эта антисистематическая аксиома вошла сегодня в систему. В начале этой книги я уже упоминал о форме, приданной ей Лиотаром, но, за исключением, пожалуй, Лардро и Жамбе, она характерна для всех современных французских философов, особенно для тех, которые мерцают в том типическом созвездии, где находишь греческих софистов, Ницше, Хайдеггера и Витгенштейна.
Читать дальше