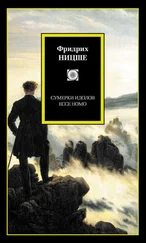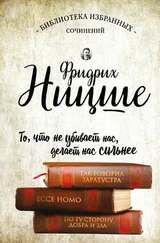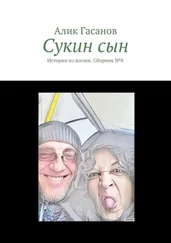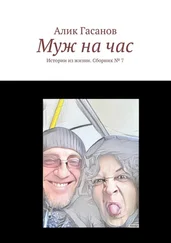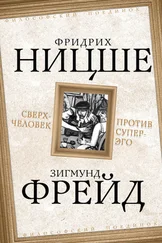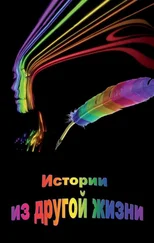Бывают времена, когда разумный человек и человек интуитивно мыслящий стоят друг возле друга — один в страхе перед интуицией, другой с насмешкой над абстракцией; последний настолько же неразумен, насколько первый нехудожествен. Оба хотят господствовать над жизнью, первый умеет встречать главнейшие нужды предусмотрительностью, разумностью, планомерностью, второй, как слишком радостный герой, не видит этих нужд и считает реальною лишь жизнь в царстве призраков и красоты. Там, где, как в древней Греции, человек интуиции сражается лучше и победоноснее, чем его противник, там в счастливом случае может образоваться культура и господство искусства над жизнью: этап, вымысел, отрицание необходимости, блеск метафорических наблюдений и вообще непосредственность обмана сопровождает все проявления такой жизни. Ни дом, ни поступь, ни одежда, ни глиняный сосуд не указывают на то, чтобы они были изобретены нуждой: кажется, будто во всем этом выражается возвышенное счастье, олимпийская безоблачность и игра с серьезностью. В то время как человек, руководимый понятиями и абстракциями, благодаря им лишь отбивается от несчастья и не извлекает из них счастья; в то время как он ищет хоть какой-нибудь свободы от боли, — человек интуиции, стоя в центре культуры, пожинает уже со своих интуиции, кроме защиты от зла, постоянно струящийся свет, радость, утешение. Конечно, он страдает сильнее, если только он страдает: да он страдает даже чаще, потому что он не умеет учиться у опыта и всегда попадает в ту же яму, в которую уже попадал раньше. И тогда, в страдании, он бывает таким же неразумным, как в счастье: он громко кричит и ничем не утешается. Как непохоже на него поступает в таком же несчастье человек-стоик, выучившийся на опыте и господствующий над собой с помощью понятий! Он, который в других случаях ищет лишь откровенности, истины, свободы от обманов и защиты от обольщающих призраков, теперь, в несчастии, доказывает свое мастерство в притворстве, как тот это доказывает в счастье; его лицо, не подвижное и переменчивое лицо человека, — это маска с достойною правильностью черт; он не кричит и никогда не изменяет своего голоса: если над его головой разверзается грозовая туча, он завертывается в свой плащ и медленными шагами продолжает идти под дождем.
Воспоминания сестры Фридриха Ницше, Елизаветы Ферстер-Ницше
ГОМЕР И КЛАССИЧЕСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ
Эта вступительная речь, как было уже упомянуто во введении, была произнесена 28 мая 1869 года в зале базельского университета, а в конце 1869 г. была отпечатана для самого тесного круга друзей, так как ее «опубликование было бы совершенно неудобным». Вместе с несколькими напечатанными и ненапечатанными шутливыми стихотворениями она была посвящена мне в благодарность за мое филологическое сотрудничество в составлении указателя к Rheinisches Museum: «Моей дорогой и единственной сестре Елизавете как усердной сотруднице на голых полях филологии».
Эти немногие экземпляры, отпечатанные на правах рукописи, все же не всегда попадали в верные руки; впоследствии, когда филологи выступили против брата, именно это безобидное посвящение ставилось ему в упрек, как насмешка над филологией.
РОЖДЕНИЕ ТРАГЕДИИ
Возникновение «Рождения трагедии» в его набросках, по-видимому, относится ко времени от осени 1869 до ноября 1871 года. За эти годы «в нем бродило множество эстетических проблем и ответов на них», которые и нашли себе временное выражение в двух докладах, прочитанных им в базельском музее 18 января и 1 февраля 1870 г. Кроме этих двух докладов — «Греческая музыкальная драма» и «Сократ и трагедия» — еще одну статью можно считать текущим выражением его мыслей, — статью, которую он написал летом 1870 года в Мадеранской долине незадолго до начала войны. Он говорит о ней: «Этим летом я написал статью „о дионисическом миросозерцании“, освещающую греческую древность с той стороны, с которой мы теперь можем приблизиться к ней благодаря нашему философу. Но это пока только мысли, рассчитанные на меня одного. Я хотел бы только иметь достаточно времени для того, чтобы вполне созреть и быть в состоянии произвести нечто более совершенное». Эти три статьи по своим главным мыслям почти целиком вошли в «Рождение трагедии». В течение 1870 года возникли различные обширные наброски этого произведения, но лишь в январе и феврале 1871 года, в Базеле и в Лугано, брат использовал все эти записи и написал текст, который, по его возвращении в Базель, был им закончен в его предварительной форме. Сначала эта статья не имела никакого отношения к Рихарду Вагнеру и его искусству, — еще в начале февраля 1871 г. она называлась «Греческая радость». Лишь между 12–26 апреля 1871 г. автор на основаниях, приведенных во введении, прибавил к статье еще несколько частей, которые приводили греческую трагедию в связь с искусством Вагнера. Здесь следует отметить, что Рихард Вагнер в своей статье «О значении оперы» (Ges. Schr. В. IX. S. 167), говоря о компромиссе между аполлоновским и дионисическим искусством в античной трагедии, заимствовал эти мысли у моего брата, так как рукопись «Сократ и трагедия» в ее первоначальной форме доклада, так же как и «Греческая музыкальная драма» были уже в феврале 1870 г. в руках Вагнера и он читал их вслух г-же Косиме. Также и третье упомянутое выше выражение идей брата о греческой трагедии было сообщено им Вагнеру уже в начале апреля 1870 г. Он возвратился тогда в Трибшен для того, чтобы проститься с Вагнером перед своим отъездом на театр войны в качестве брата милосердия. При этом он прочел написанную в Мадеранской долине статью «О дионисическом миросозерцании» и потом поднес ее на Рождество, изящно переписанною, г-же Косиме Вагнер. Кроме того, по словам Роде, тема об аполлоновском и дионисическом началах обсуждалась им и Ницше при его первом посещении брата в Базеле, в начале 1870 г. Поэтому 28 мая 1870 г. Роде пишет брату: «Я внимательно прочел статью Вагнера „О значении оперы“. Часто мне казалось, дорогой друг, что слышу твои слова там, где идет речь о греческой драме». (Briefe. 11,239).
Читать дальше
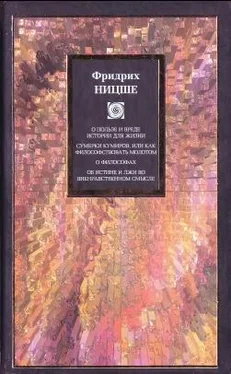
![Фридрих Ницше - Песни Заратустры [сборник]](/books/28216/fridrih-nicshe-pesni-zaratustry-sbornik-thumb.webp)