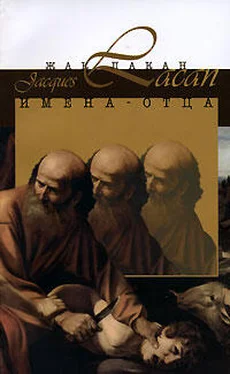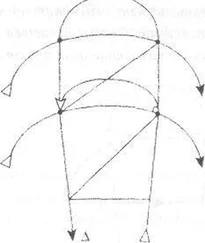В тревоге объект маленькое а выпадает. Выпадение это является первичным фактом. Различие форм, которые принимает пропавший объект, связано с видами, под которыми воспринимается субъектом желание Другого.
Это и объясняет функцию орального объекта.
Я давно уже настаиваю на том, что функция становится понятна лишь при условии, что объект, который отделяется от субъекта, входит в тот же момент в требование Другого, в призыв, обращенный к матери, обрисовывая ту потустороннюю область, где находится, в завуалированной форме, желание матери. Действия малыша, который в удивлении, отрываясь от груди, запрокидывает головку, говорят о том, что грудь эта принадлежит матери лишь по видимости. По сути дела она принадлежит ему самому. Этому, собственно, нас учит и биология. Грудь является частью аппарата кормления, которая у разных животных видов устроена по разному. В данном случае в нем налицо внутренняя и наружная части, последняя из которых как бы налеплена на материнскую грудную клетку.
Второй разновидностью объекта является объект анальный. Мы имеем с ним дело в феноменологии дара, приношения как душевного движения. Ребенок, выпуская наружу содержимое своего кишечника, уступает тому, что впервые выступает как нечто такое, чему требование Другого подвластно — желанию Другого — желанию, которое остается на этом этапе двусмысленным.
Как ухитрились писавшие об этом авторы не заметить, что именно на этом уровне находит себе поддержку так называемая облативность, жертвенность? То, что авторы эти ухитрились поместить облативную связь на уровень генитального акта, представляет собой чистой воды увиливание от проблемы, обличающее паническое бегство их от тревоги.
Зато именно с генитальным уровнем сам Фрейд, а вслед за ним и идущая от него традиция, связывают зияние кастрации.
Современные Фрейду психофизиологи сводят кастрацию, как некую помеху, к явлению, которое названо ими механизмом ложной детумесценции, в то время как Фрейд уже в самых ранних своих работах отмечает в оргазме нечто такое, что выполняет в отношении субъекта одну функцию с тревогой. Я счел нужным вам это в прошлом году показать. Оргазм сам по себе уже и есть тревога, поскольку желание навсегда отделено от наслаждения лежащим в центре изъяном.
И не надо в возражение нам ссылаться на те безмятежные минуты, когда партнеры словно сливаются воедино и каждый готов признаться себе, что удовлетворен — другим — полностью. Ведь присмотревшись к ним мы, аналитики, увидим, что в моменты эти налицо то фундаментальное алиби, алиби фаллическое, когда женщина сублимируется, в каком-то смысле, в присущую ей функцию выигрыша, в то время как нечто более существенное полностью остается вовне. Именно для того, чтобы показать это, комментировал я так подробно место из Овидия, где излагается миф о Тиресии. Нельзя не указать и на видимые следы потустороннего и непочатого женского наслаждения — следы, которые находим мы в мужском мифе о пресловутом мазохизме этого прорицателя.
Но я пошел с вами еще дальше. Симметричным образом, на той, не то чтобы нисходящей, но образующей кривую линии, на вершине которой располагается обнаруженное нами на генитальном уровне зияние между желанием и наслаждением, я наметил еще одну функцию объекта маленького а- функцию, которую приобретает он на уровне зрительного влечения.
Сущность его реализуется на этом уровне в том, что именно здесь, в большей мере, чем где бы то ни было, субъект является пленником функции желания. Дело в том, что сам объект здесь своеобразен.
Объект является на этом уровне, в первом приближении, тем глазом, который так наглядно выступает в мифе об Эдипе в качестве эквивалента подлежащего кастрации органа. Но не об этом тем не менее здесь идет речь.
В зрительном влечении субъект одержим миром как спектаклем. В этом мире он становится жертвой обмана — то, что исходит из субъекта и затем вовне предстоит ему, является не подлинным другим, а, а всего лишь его собственным дополнением, зеркальным образом, i(a). Вот что представляется из него выпавшим. Субъект увлечен спектаклем, он радуется, он ликует. Это то самое, что Блаженный Августин, в тексте, с которым я с удовольствием познакомил бы вас, очень тонко обличает как похоть очей. Субъект полагает, будто желает, потому что он видит себя желанным, не замечая при этом, что то, что Другой хочет у него вырвать, — это его взгляд.
Доказательством этому служит то, что можно наблюдать в феномене Unheimlich, жуткого. Каждый раз, когда неожиданно, в силу какого-то спровоцированного Другим инцидента, образ себя в Другом предстает субъекту как лишенный взгляда, вся ткань сети, в которую уловило его зрительное влечение, расползается, и мы становимся свидетелями того, как возвращается, в самом первобытном своем виде, тревога.
Читать дальше