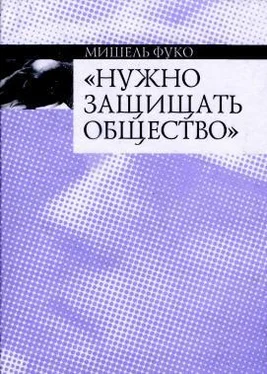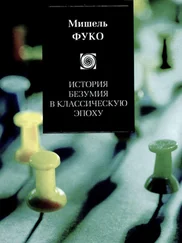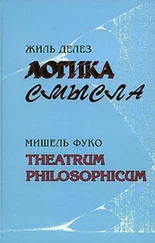Поэтому западные интеллектуалы начали поиски теперь уже подлинно других ценностей, другого мира, совершенно другого по сравнению с обществом, в котором они жили. Интересно, как в этой связи Фуко оценивает диалектику. Маркс и Энгельс видели в ней беспощадное оружие, с помощью которого мог быть вынесен приговор существующему, обоснована неизбежность его гибели в результате борьбы его внутренних противоречий, С точки зрения Фуко, диалектика, напротив, выполняет функцию «усмирения» противоположностей, ибо диалектические противоположности не только борются друг с другом, но и в определенной степени оказываются едиными и должны быть таковыми, чтобы сохранилась непрерывная цепь исторического развития. Поэтому именно за пределами этой цепи, за пределами диалектической связи Фуко ищет подлинно иное, оно находится не только за их пределами, но и формируется только путем разрыва с ними.
Итак, первая особенность генеалогического подхода к истории — разрыв с представлением о непрерывности ее развития. Вторая заключается в отказе от универсалистских притязаний разума. Можно выделить два главных направления, по которым Фуко ведет критику разума. Одно из них представлено критикой эпохи Просвещения. Такую критику издавна вели и представители правых, и марксисты, хотя и с разных точек зрения. Критика Фуко имеет с ними частичное сходство, но в целом она глубоко оригинальна. Просвещение он рассматривает как эпоху наложения дисциплины на знания, как эпоху, в которую происходила сортировка знаний, при этом одни из них были дисквалифицированы и отброшены за пределы наук, а другие подверглись классификации, иерархизации и были включены строго определенным образом в формировавшуюся тогда систему наук. Интерес Фуко сосредоточен на отброшенных, дисквалифицированных знаниях, которые либо в силу своего локального характера, либо недостаточной научности были исключены из системы наук.
Но разум вызывает критику со стороны Фуко еще по одной и весьма серьезной причине. А именно постольку, поскольку разум, точнее «философско-юридический разум», использовался для обоснования государственной власти (имеются в виду теории общественного договора, суверенитета и т. п.) и служил ей опорой при выполнении властных полномочий. Центральная государственная власть вообще выступает как олицетворение разума и подобно ему осуществляет подчинение локального универсальному, гетерогенного гомогенному, уничтожая то, что не поддается гомогенизации. М. Фуко всегда выступает защитником локального, и потому стремится выйти за пределы государственного разума к тому локальному, которое подвергается универсализации со стороны власти. Двигаясь в этом направлении, Фуко делает два важных открытия, значимость которых для политической философии трудно переоценить. Он открывает две новых формы общественной власти: дисциплинарную власть и биовласть. Первая составляет как бы фундамент здания власти, верхние этажи которого занимает центральная государственная власть. Здесь государственное насилие в отношении граждан имеет скрытую форму, оно запрятано под оболочкой закона, права, зато ниже уровня центральной власти в обществе царит сила, действующая не от имени закона, а при опоре на правила внутреннего распорядка, характерные для таких институтов, как тюрьма, школа, армия, клиника. Такова дисциплинарная (или дисциплинирующая) власть, которая уравнивает индивидов, разделяет их, регистрирует и контролирует. Биовласть действует на другом уровне, она берет под свой контроль все население и обеспечивает ему социальную безопасность, при этом она опирается на понятие «нормы». Итак, оборотной стороной государственного разума, закона и права оказывается сила, действующая посредством дисциплинарных принуждений и приведения к норме.
Может создаться впечатление, что Фуко довольно близок к Марксу как в своей критике договорных теорий возникновения государства, так и в трактовке государства как узаконенной формы насилия. Однако и в вопросе о государстве многое отделяет Фуко от Маркса: во-первых, согласно Марксу, область политического находится в зависимости от сферы экономических отношений, так что государственная власть оказывается выразительницей интересов экономически господствующего класса; во-вторых, Маркса интересовал прежде всего конфликт двух главных противоборствующих сил общества — буржуазии и пролетариата. И если буржуазия уже обладала властью, то пролетариат только стремился к ней. Таким образом, обоим классам были присущи государственные амбиции и стремление к универсализации общества, к его гомогенизации. Фуко же, как уже сказано выше, не приемлет универсалистских притязаний, проявляются ли они со стороны буржуазии или пролетариата или с какой-либо другой стороны.
Читать дальше