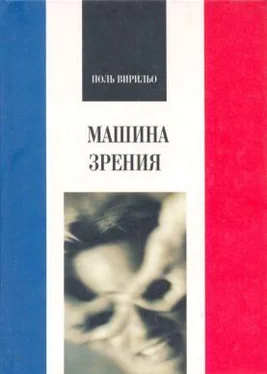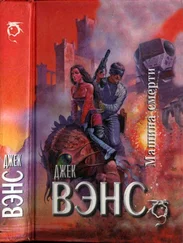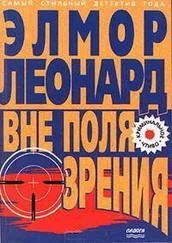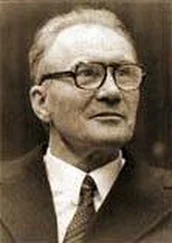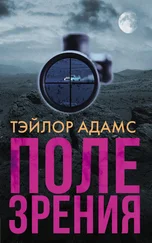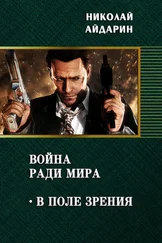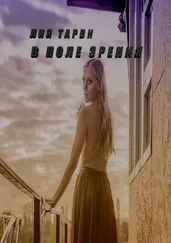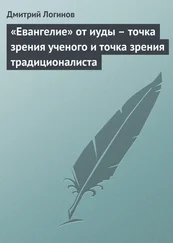Благодаря промышленному размножению визуальных и аудиовизуальных протезов, благодаря активному использованию технологий моментальной трансмиссии мы с самого раннего возраста с привычной легкостью считываем все более сложные ментальные образы, все меньше задерживаясь на них и почти не возвращаясь к ним впоследствии: мнезические образы распадаются все быстрее.
Это выглядит естественно — особенно, если вспомнить, что взгляд и его пространственно-временная организация предшествуют жесту, речи и их координации в познании, узнавании, научении: ведь речь идет об образах наших мыслей, о самих наших мыслях, о когнитивных функциях, которым неведома пассивность. [12] Romains J. La vision extra-rétinienne et le sens panoptique. Paris: Gallimard (Эта пророческая книга, вышедшая в 1920 г., была переиздана в 1964 г.): «Опыты над внесетчаточным зрением свидетельствуют о том, что некоторые пороки глаз (например, страбическая амблиопия) вызывают у пациента нарушение сознания: глаз сохраняет свои свойства, в нем создается изображение, но сознание отклоняет его с растущим упрямством, приводящим иногда к полной слепоте».
Исключительно показательны в этом отношении опыты над коммуникативностью новорожденного. Ребенок, это маленькое млекопитающее, вынужденное довольно долго жить в условиях, близких к неподвижности, следует, оказывается, не только за материнскими запахами (груди, шеи и т. д.), но также и за движениями взгляда матери. В ходе опыта по изучению зрения, когда трехмесячного ребенка держат на руках, на уровне лица, глаза напротив глаз, и медленно поворачивают справа налево и слева направо, выясняется, что его глаза, как это было точно подмечено производителями старинных фарфоровых кукол, «бегают» в противоположном направлении, и просто-напросто потому, что новорожденный не хочет терять из вида улыбающееся лицо того, кто его держит. Этот опыт расширения поля зрения принимается ребенком как награда, он смеется и требует продолжения игры. Мы прикасаемся здесь к чему-то фундаментальному: ведь приводя взгляд в движение, новорожденный вступает на путь формирования своего постоянного коммуникационного образа. Как говорил Лакан, общение вызывает смех, и ребенок в ходе этого опыта попадает в идеальную человеческую позицию.
Все, что я вижу, в принципе достижимо для меня (по крайней мере для моего взгляда), присутствует на карте «я могу». В этой важной фразе Мерло-Понти точно описывает то, что оказывается уничтоженным вошедшей в привычку телетопологией. В самом деле, суть того, что я вижу, уже не является для меня в принципе достижимой, не попадает с необходимостью на карту «я могу», моих возможностей. Логистика восприятия бесповоротно уничтожает еще сохранявшуюся в прежних формах репрезентации долю этого первобытного идеально-человеческого счастья, этого «я могу» взгляда, которое не позволяло искусству быть непристойным. Я часто задумывался об этом в связи с натурщицами, которые позировали совершенно раздетыми, повиновались всем требованиям живописцев и скульпторов, но наотрез отказывались фотографироваться, считая, что речь при этом заходит об акте порнографии.
Формирование первого коммуникационного образа имеет бесчисленную иконографию, можно даже сказать, что это одна из главных тем христианского искусства, представляющего Марию (которую именовали в том числе и Медиатрисой, Посредницей) как первую карту «я могу» бога-ребенка. И наоборот, отказ Реформации от догмата единосущности и этой физической близости заявляет о себе в эпоху Ренессанса, когда множатся оптические аппараты… Одной из последних к такого рода картографии прибегнет романтическая поэзия: у Новалиса тело возлюбленной (теперь уже профанное) является конспектом мира, а сам этот мир — не что иное, как продолжение тела возлюбленной.
Таким образом, техники перемещения приводят нас не к продуктивному бессознательному зрения, которое в свое время грезилось сюрреалистам в фотографии и кинематографе, но к бессознательности зрения, к аннигиляции местоположений и видимости, грядущий размах которой пока еще трудно себе представить. Смерть искусства, которая провозглашается с XIX века, есть не что иное, как ее первый грозный симптом, наряду с тем беспримерным в истории человеческих обществ фактом, с тем возникновением неупорядоченного мира, о котором говорил в ноябре 1939 г. Герман Раушнинг, автор «Революции нигилизма», книги о нацизме: всеобщее крушение всякого предустановленного порядка, какого еще не ведает человеческая память. В ходе этого беспрецедентного кризиса репрезентации (никак не связанного с классическим, да и каким угодно, декадансом) на смену привычному акту видения приходит низшая ступень восприятия, некий синкретизм, жалкая карикатура на квазинеподвижность первых дней жизни: субстрат чувств, который существует отныне лишь как смутно очерченное целое, откуда от случая к случаю выходят какие-то формы, запахи, звуки и т. д., воспринимаемые более четко.
Читать дальше