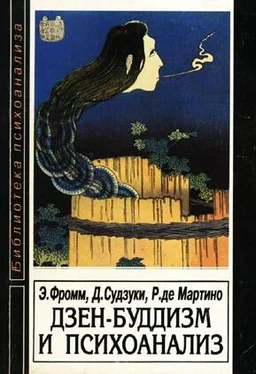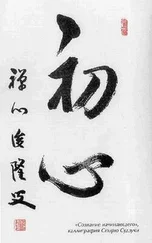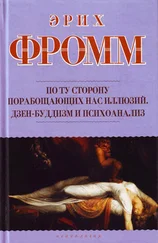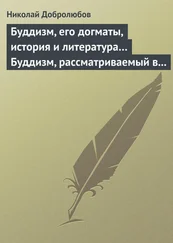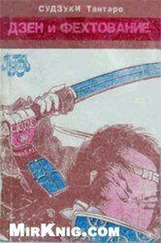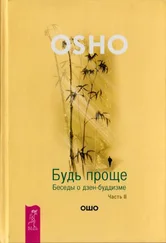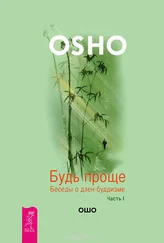Психоанализ может быть неплохим орудием для очищения религии от всякого рода посторонних элементов — проекций детских образов, гипостазированных страхов и чаяний, но собственно религиозных функций у психоанализа нет. В «гуманистической религии» Фромма легко уживаются Фрейд, Маркс, Будда и Христос, но как раз это говорит о том, что мы имеем дело не с религией. Вернее, это вариант «человекобожества», провозглашающего священной человеческую природу или жизнь вообще («биофилия» Фромма).
Религиозный же характер дзен-буддизма, при всей его недогматичности, несомненен: в «сердце» открывается Будда, который и является «природой человека» и его подлинным Я. В дзен нет понятий греха, он не рисует картин грядущей жизни и умалчивает даже о существовании или не-существовании Бога. Тем не менее это религия, целью которой является преображение человека. Сходство между приводимыми Судзуки «пятью шагами» и «духовным восхождением» Мейстера Экхарта, которого цитирует Фромм, не вызывает сомнений, но столь же очевидно, что оба эти пути к просветлению принципиально отличаются от психоанализа. Можно называть или не называть такие учения и практики «мистическими» (слово «мистика» обросло массой случайных значений), но их целью являются погружение в первоисток всякого бытия, трансформация земного человека в свете живой Истины. «Космическое Бессознательное» Судзуки поэтому имеет не психологический, а онтологический характер.
Сближение техники психоанализа с упражнениями дзен также не вполне корректно. Даже если в| психоанализе и есть некое «просветление», то оно приходит постепенно, путем тщательного анализа бессознательных влечений, сновидений, проекций и идентификаций, так называемых «объектных отношений». Особенностью дзен в сравнении со всеми другими вариантами буддизма является как раз «внезапное просветление». В полемике с северной школой, исповедующей «постепенное озарение», чань-буддизм настаивал на мгновенном прозрении. Состояние просветления либо испытано, либо нет, и хотя в дзен имеется подразделение стадий сотори, нужно достичь хотя бы первой из них, чтобы «стать Буддой». Хуэй-нэн специально подчеркивал заблуждение тех, кто думает, будто путем медитации [дхьяна] можно получить озарение {праджня}. Заблуждением и даже искушением считается и мнение, будто с помощью своего эмпирического Я можно достичь просветления. Напротив, оно достижимо только с исчезновением субъекта, со смертью эго — «Истинный Человек» Линь-цзи появляется по ту сторону индивидуального существования. Отсюда и брутальные методы древних наставников, и парадоксы коана, и нарочитое пренебрежение к книжной мудрости и ритуалам — все это вполне понятно в средневековом Китае, где конфуцианские церемонии пронизывали всю жизнь, а ученость служила средством достижения чина.
Психоаналитики, с точки зрения дзен, являются своего рода конфуцианцами, которые признают роль «сердца», но прилагают все усилия для укрепления иллюзорного эго — большинство сегодняшних аналитиков следует идеям эго-психологии и считают своей задачей усиление рационального эго, вовсе не стремясь к его «смерти», В «гуманистическом психоанализе» Фромма речь также идет о расширении и совершенствовании это, находящегося в субъект-объектных отношениях с миром. Первые патриархи чань отвергли «сидячую медитацию», и уж тем более они отвергли бы процедуры психоанализа — как некой «лежачей медитации». Для дзен задачей человека является очищение от ложных представлений, образов и привязанностей, но первым и главным препятствием здесь является наше собственное это, иллюзорное человеческое существование, и любой светский «гуманизм», включая «гуманистический психоанализ» или «гуманистическую религию» Фромма, оказывается таким «ложным представлением».
Наконец, еще одно замечание исторического порядка. На протяжении всей работы — всеми тремя авторами — дзен-буддизм рассматривается на примере учения Линь-цзи и его последователей в Японии (секта Риндзай). Это и неудивительно, поскольку данная школа имеет ряд черт, привлекательных для современного западного интеллектуала. Ученик тут приходит к наставнику по своей воле и так же уходит, отношения между наставниками, монахами, учениками лишь в самой малой мере организованы с помощью традиционных предписаний, а Линьцзи, время от времени хватающий монахов за грудки, вполне соответствует образу экзотического восточного «гуру». Догматическое содержание религии здесь сведено к минимуму, всякий волен толковать опыт на собственный лад. Словом, дзен в такой трактовке напоминает просто школу особого рода философской медитации или психологического тренинга, да еще имеющую дело с боевыми искусствами. Можно в нее ненадолго записаться и «получить» необходимый «опыт».
Читать дальше