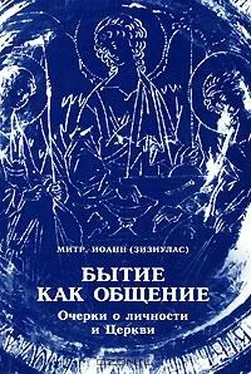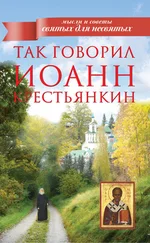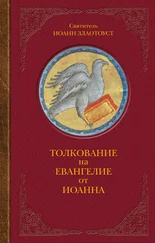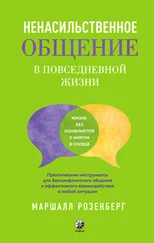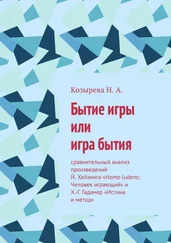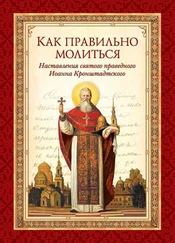В таком кафолическом мировоззрении вся проблема отношений Церкви к миру получает другую перспективу. Разделение и сопоставление этих двух может не иметь существенного значения, потому что нет такой точки, где могут быть окончательно и объективно очерчены пределы Церкви. Существует постоянное взаимодействие между Церковью и миром, миром, являющимся творением Божиим и никогда не перестающим принадлежать Ему, и Церковью, являющейся общиной, которая через нисхождение Святого Духа превосходит сама по себе этот мир и предлагает его Богу в Евхаристии [299].
(4) Но как можно примирить эту точку зрения с тем фактом, что сама евхаристическая община разделяется на саны и чины , то есть на категории и классы людей? История показывает, что здесь существует реальная, настоящая проблема, так как разделения, которые происходили на этой основе, были столь глубоки, что Церковь все еще страдает от них [300]. Как может быть ситуация, которая является результатом посвящения в служения и саны, в духовенство и мирян, быть превышена таким образом, чтобы возвыситься над всеми разделениями в евхаристической общине?
Тот факт, что все посвящения очень рано были инкорпорированы в евхаристическую общину, по моему мнению, представляет чрезвычайную важность в этом отношении. Первым важным следствием этого факта является то, что нет такого служения, которое можно рассматривать как существующую параллель служения Христа, но только как идентичную этому. В своем бытии как Тело Христово Церковь существует как проявление собственного служения Христа и как отражение самого этого служения в мире. Не случайно, что ранняя Церковь относила ко Христу все существовавшие формы служения. Он был Апостолом [301], Пророком [302], Священником [303], Епископом [304], Диаконом [305]и т. д. Христологически понимаемое служение превосходит все категории приоритета, а разделения, которое может быть создано актом посвящения и"отделения".
Другим фундаментальным следствием является то, что нет в Церкви служения, которое может быть понятно вне контекста общины. Это не следует объяснять в терминах представительности и делегирования власти, ибо эти термины, являясь в основном юридическими, в конечном итоге ведут к отделению посвященного в сан лица от общины: действовать от имени общины означает стоять вне ее, потому что это означает действовать вместо нее [306]. Но то, что именно отрицается этим общинным аспектом, то, что мы хотим здесь выделить, так это то, что нет никакого служения, которое может стоять вне или над общиной.
Утверждать, что служение принадлежит общине, означает в конечном итоге ставить всю проблему посвящения в сан вне дилеммы выбора между онтологическим и функциональным . Долгое время предметом дискуссий являлся вопрос, накладывает ли посвящение в сан нечто неотъемлемое на посвященное в сан лицо, нечто, что составляет его индивидуальную собственность (постоянно или временно), или оно просто наделяет его властью функционировать с определенной целью. В свете евхаристической общины эта дилемма не имеет смысла и вводит в заблуждение, ибо концепция там, как мы уже имели случай подчеркнуть это, является в основном экзистенциальной. Не существует такой харизмы, которая может быть обладаема индивидуально , как не существует такой харизмы , которая могла бы быть мыслима(понимаема) и используема без(вне) индивидуума. Как можно понимать это утверждение?
Здесь, я думаю, мы должны искать объяснений в фундаментальных различиях между индивидуальным и личностным . В философии [307]это различие уже проводилось не раз, но оно редко применялось к богословским предметам, представленным экклезиологией. И, однако, парадокс инкорпорации"многих"в"одного", на чем базируется, как мы уже видели, евхаристическая община и, возможно, вся тайна Церкви, можно понять и объяснить только в категориях личностного существования . Индивидуум представляет категорию, которая предполагает разделение и отделение."Индивидуальность проявляется путем ее дифференциации от других индивидуальностей" [308]. Личность представляет категорию, которая предполагает единство с другими лицами [309]. Евхаристическая община и Церковь вообще как общение ( кинониа ) могут быть поняты только в категориях личного существования.
Посвящение на служение в контексте евхаристического общения подразумевает, что"печать Духа Святого", который даруется, не может существовать вне экзистенциальных отношений получателя с общиной. Это не простая функция, осуществляемая вне глубоких связей с этой общиной. Это связь любви [310], такая, какой является всякий дар Духа, и ее неизгладимый характер можно сравнить только с тем, что даруется и обладается любовью. Вне этих экзистенциальных уз с общиной она предназначена умереть, точно также как Дух, Который дарует эту харизму однажды и постоянно поддерживает ее, не живет вне этой общины, потому что Он есть эти узы любви. Именно в этом смысле Духом исключительно обладает Церковь [311]и что всякое служение есть дар этого Духа.
Читать дальше