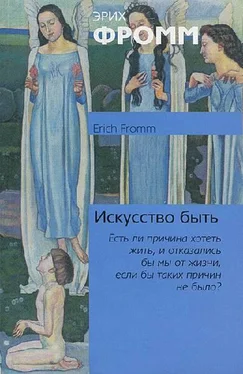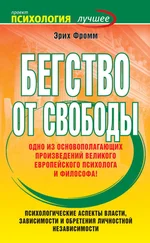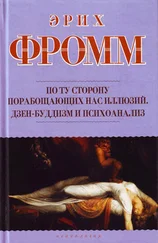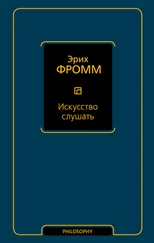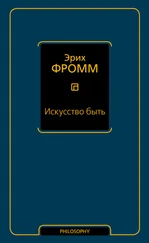Клиентами психоаналитиков являются преимущественно либеральные представители среднего и выше среднего классов, для которых религия уже не играет эффективной роли и у кого нет сильных политических предпочтений. Для них ни бог, ни император, папа римский, раввин или харизматический политический лидер не заполняют чувство пустоты. Психоаналитик становится смесью из гуру, ученого, отца, священника или раввина. Он не ставит сложных задач, дружелюбен, превращает все реальные жизненные проблемы — социальные, экономические, политические, религиозные, моральные, философские — в психологические. Он, таким образом, понижает их до статуса рационализаций кровосмесительных желаний, отцеубийственных импульсов или анальной фиксации. Мир становится простым, объяснимым, управляемым и комфортным, когда он сжимается до буржуазного мини-космоса.
* * *
Очередная опасность традиционного психоанализа заключается в том, что часто пациент только притворяется, что хочет перемен. Если он страдает от неприятных симптомов, таких, как плохой сон, импотенция, страх авторитетов, нескладывающиеся отношения с противоположным полом или общее чувство недомогания, он, конечно, хочет избавиться от них. Кто не хотел бы? Но он не хочет испытывать боль и страдание, которые неотделимы от процесса взросления и получения независимости. Как он решает эту дилемму? Он ожидает, что если он строго следует «общему правилу» — говорить то, что придет в голову без ограничений, — то излечится без боли и даже без усилий, короче говоря, он верит в «спасение через общение». Но так не бывает. Без усилий и готовности испытать боль и страх никто не растет, никто не достигает ничего, что стоило бы достичь.
Еще одной опасностью традиционного психоанализа является то, чего человек меньше всего ожидает: «интеллектуализация» эмоционального опыта. Намерения Фрейда были, очевидно, противоположными: он хотел сломать традиционный сознательный мыслительный процесс и опираться на эмоции, чистые, нерациональные, нелогичные чувства и видения, спрятанные за зеркальной поверхностью каждодневных мыслей. Он и находил их во время гипноза, анализируя сны, симптомы и многие иные, обычно незаметные детали поведения. Но в практике психоанализа первоначальная цель исчезла и стала идеологией. Все больше и больше психоаналитики превращались в своего рода тяжело нагруженных теоретическими объяснениями и конструкциями историков, изучающих развитие человека.
У психоаналитика был ряд теоретических положений, и он рассматривал ассоциации пациента через призму документального подтверждения правильности своих теорий. Он целиком доверял им, потому что был убежден в истинности теоретических догм, и что материал для анализа, который ему предлагает пациент, должен быть глубоким и подлинным именно потому, что он соответствует теории. Метод стал преимущественно объяснением . Вот типичный пример: пациентка страдает от ожирения, вызванного устойчивыми привычками в еде. Аналитик интерпретирует устойчивость привычек и последующую полноту как имеющие корни в подсознательном желании проглотить семя своего отца и забеременеть от него. Тот факт, что она не помнит, были ли у нее когда-либо такие желания и фантазии, объясняется подавлением болезненного детского опыта; причина «реконструируется», только основываясь на теории, и весь последующий анализ сводится к попыткам психоаналитика, используя отцовские ассоциации и сны пациентки, доказать правильность реконструкции. Утверждается, что когда пациентка полностью «поймет» значение симптома, она от него излечится.
В общем, метод, использующий такую интерпретацию, заключается в излечении объяснением, в ответе на главный вопрос: «Как сформировались невротические симптомы?» Когда пациента просят продолжать ассоциировать, он вовлекается умственно в исследование происхождения симптомов. То, что должно было быть опытным методом, превратилось — на практике, а не в теории — в интеллектуальное исследование. Даже если теоретические основы были верны, такой метод не может привести к положительным изменениям за исключением тех, которые вызваны внушением. Если пациент подвергается психоанализу достаточно длительное время и ему говорят, что тот или иной фактор послужил причиной невроза, он легко это допустит, и симптом ослабеет на основе веры в то, что открытие причины принесло выздоровление. Этот механизм встречается настолько часто, что ни один ученый не примет факт излечения вследствие действия определенного лекарства, если пациент не знал, давали ли ему лекарство или плацебо (не только пациент, но и доктор); ученый должен знать, что он сам не находится под влиянием собственного объяснения («двойной слепой тест»).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу