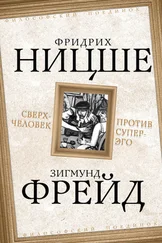19
Наделенные слабыми, в высшей степени несовершенными чувствами люди не отваживаются на то, чтобы придать явлениям окружающего мира смысл на основе личного могущества, обеспеченного за счет понятий. Они желали бы, чтобы «закономерность природы» представилась их чувствам как готовый факт. Субъективная, сформированная в меру устройства человеческого ума картина мира представляется им не имеющей никакой ценности. Однако в результате простого наблюдения происходящих в мире событий возникает лишь бессвязная и тем не менее нерасчлененная на частности картина мира. Никакой предмет, никакое событие не представляется взору простого наблюдателя более важным и значительным, чем любые другие. Если мы будем взирать просто на объективную сторону дела, какой‑нибудь рудиментарный орган в организме, который, быть может, если о нем поразмыслить, предстанет для развития жизни не имеющим никакого значения, будет претендовать на точно такое же внимание, как и наиболее благородная часть организма. Причина и следствие — последовательные явления, перетекающие друг в друга без какого‑либо водораздела, пока мы их просто наблюдаем. Лишь когда мы со своим мышлением вступаем в дело и обособляем перетекающие друг в друга явления, мысленно соотнося их между собой, становится видна закономерная взаимосвязь. Лишь мышление объявляет одно явление причиной, а другое — следствием. Мы видим, как капля дождя падает на почву и создает в ней углубление. Неспособное к мышлению существо усмотрит в этом не причину и следствие, но лишь последовательность явлений. Мыслящее существо обособляет явления, соотносит обособленные факты между собой и обозначает одно событие как причину, а другое — как следствие. Наблюдение побуждает рассудок вырабатывать мысли и сплавлять их с наблюдаемыми фактами в единое целое — до полной идейного содержания картины мира. Человек делает это, поскольку хотел бы мысленно господствовать над совокупностью наблюдений. Противостоящая ему бессмысленность давит на него, как неведомая сила. Он противится этой силе и преодолевает ее, делая осмысляемой. Теми же самыми причинами объясняются также и все вообще счисление, взвешивание и подсчет явлений. Это есть воля к власти, заявляющая о себе во всю мощь в побуждении к познанию. (Процесс познания был мною детально описан в двух моих сочинениях: «Истина и наука» и «Философия свободы».).
Безыскусный и хилый рассудок не желает смириться с тем, что он‑то как раз и истолковывает факты — в качестве выражения своего стремления к власти. Также и собственные истолкования почитаются им за данность. И он задается вопросом: как же все‑таки человеку удается отыскать такую данность в действительности. Например, он спрашивает: как получается, что в двух следующих друг за другом событиях рассудок усматривает причину и следствие? Все философы, занимавшиеся теорией познания, начиная с Локка, Юма, Канта и вплоть до современности, уделили внимание этому вопросу. Но все их хитроумные ухищрения остались неплодотворными. Объяснение же находится в стремлении человеческого рассудка к власти. Вопрос стоит не так: возможны ли суждения, идеи относительно явлений, но следующим образом: нужны ли такие суждения человеческому рассудку? Поскольку он в них нуждается, рассудок к ним и прибегает, а не в силу того, что они возможны. Дело в том, чтобы «понять, что ради сохранения сущности нашего вида в такие суждения необходимо было верить; а потому, естественно, это могли быть и ложные суждения!» («По ту сторону добра и зла», § 11). «И, вообще говоря, мы склонны утверждать, что наиболее ложные суждения… суть самые для нас насущные, что без признания логических фикций, без подгонки действительности под чисто измышленный мир безусловного, самотождественного, без непрестанного фальсифицирования мира посредством числа человек не смог бы жить, так что отказ от ложных суждений означал бы отказ от самой жизни, отрицание жизни» (там же, § 4). Тот, кому это высказывание представляется парадоксальным, пусть поразмыслит о том, насколько плодотворным оказалось применение геометрии к действительности, хотя нигде в мире не бывает действительно правильных в геометрическом смысле линий, плоскостей и т. д.
Когда безыскусный и хилый рассудок уразумевает, что все суждения о вещах происходят из него самого, создаются им же самим и сплавляются затем в единое целое с наблюдениями, у него недостает мужества на то, чтобы применять эти суждения безоговорочно и безусловно. Он говорит: такого рода суждения не в состоянии наделить нас знанием об «истинной сути» вещей. Следовательно, эта «истинная суть» остается закрытой для нашего познания.
Читать дальше