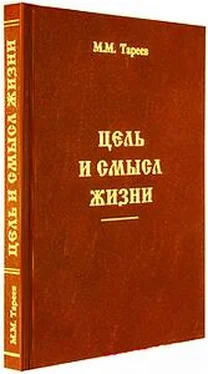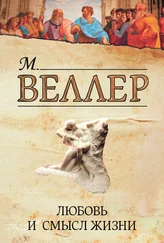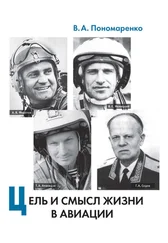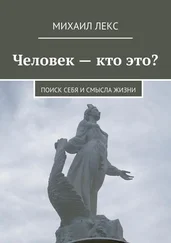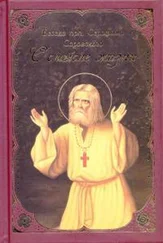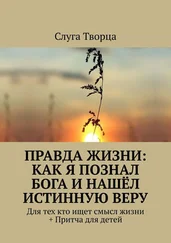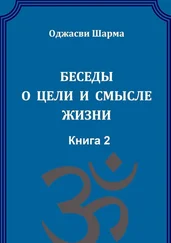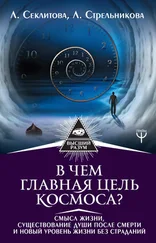V
Доселе мы говорили о том, как христианство и мир соприкасаются в отдельном человеке, но собственно христианство действует на мир чрез Церковь. Соприкосновение христианства и мира в отдельном человеке образует лишь почву, на которой развертывается действие Церкви на мир.
Отношение Церкви к миру следует представлять так. Живя в мире, Церковь должна сохранять неизменным свой характер «не от мира», должна хранить себя святою и неоскверненного от мира. Прежде всего она не должна допускать, чтобы среди ее членов считался какой-нибудь язычник, не должна терпеть никакого лицемерия в индивидуальной жизни своих чад. Церковь должна ограничиваться числом действительных христиан. Конечно, здесь речь идет не о законнической святости, не о естественном нравственном совершенстве, которое христианину так же, как и язычнику, недоступно, а о настроении христианина. Членом Церкви может быть только тот, кто любит добро, правду, чистоту, кто если падает, падает с ненавистью к греху, не услаждаясь злом. Вот в этом смысле всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога (1 Иоан. III, 9). Церковь должна строго следить, чтобы все ее члены были такими рожденными от Бога, и извергать из своей среды всякого, кто, именуясь братом, живет как язычник, как человек мира. Сам Христос сказал: «если согрешит против тебя брат твой — и не послушает Церкви, то да будет он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. XVIII, 15-17). «Кто, — пишет апостол любви, — приходит к вам и не приносит учения (Христова), того не принимайте в дом, и не приветствуйте его» (2 Иоан. 10). «Я, — говорит о себе апостол Павел, — писал вам в послании, не сообщаться с блудниками; впрочем, не вообще с блудниками мира сего, или лихоимцами, или хищниками, идолослужи-телями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе» (1 Кор. V, 9—11). Эти слова ап. Павла ясно показывают, что цель церковной дисциплины, по которой из области церковной извергается все нехристианское, не в мнимом оберегании самоуслаждающейся нравственной чистоты христиан, а исключительно в репутации Церкви. Само собою понятно, что принадлежность к Церкви не должна бы доставлять людям никакой материальной и мирских выгод. Затем, как святая, Церковь должна избегать всего мирского в своей общественной жизни, в своем устройстве: мирская власть, мирской суд, полиция, войско — в Церкви не должны иметь место в безусловном смысле. «Царство Мое, — сказал Господь, — не от мира сего: если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня: но ныне царство Мое не отсюда» (Иоан. XVIII, 36). Для церковной жизни нельзя ставить целью видимого водворения царства небесного на земле. В связь с этим должно быть поставлено то свойство Церкви, что она не определяется территориальными границами и не отделяется от мира видимым общественным устройством: ее члены входят в естественные формы общественной жизии, так что с этой стороны церковная жизнь состоит в общении между собою христиан, рассеянных в мире, а не в выселении их из мира. И святость Церкви, ее характер не от мира сего, в применении к индивидуальной жизни христиан означает лишь то, что христианам должен быть чужд дух князя мира сего, а не то, что они не могут входить в естественные нормы мирской жизни, — они не должны быть мирянами в смысле людей «от мира сего», но могут быть мирянами в смысле полноты естественной жизни, как это выяснено немного выше. Даже «если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его». Вообще «каждый оставайся в том звании, в котором призван» (1 Кор. VII, 12, 13, 20).
Но будучи не от мира сего, Церковь должна действовать на мир. Какими же путями? Как чуждая в своем устройстве всего мирского, Церковь не может действовать на мир внешними мерами. К таким внешним мерам должно отнести как действие на мир чрез государство, так и отрицание форм культурной государственной жизни. Христианская культура, как сказано, вполне человеческое дело, и в этом достаточное основание не усвоять Церкви действия на мир чрез государство. Но это еще не ведет к противоположной крайности, к отрицанию форм культурной жизни. Отмена форм культурной жизни и нежелательна, и невозможна. Вопрос о том, в каких границах приемлем для каждого христианина мир, о чем сказано выше, нужно отделять от вопроса о значении культуры для мира. «Не судите, да не судимы будете» — это правило личной христианской жизни и церковнсго устройства йе может служить основанием для отрицания пригодности судов для мира. Отмена для мира форм культурной жизни нежелательна потому, что из мира человек приходит ко Христу только чрез естественное развитие, разумея вместе и душевно-телесное возрастание и специфически-религиозное значение естественного развития, которое раскрыто в своем месте. Нет никакого смысла ребенку проповедывать о евангельской ненависти к отцу и матери, о юродстве, говорить ему против идеалов естественного совершенства и пр. Одно только крещение восьмидневного ребенка не сделает из него христианина. Ко Христу можно приходить только из мира. Отмена для мира форм культурной жизни невозможна: не насильственно навязаны миру эти формы, а естественны для него, и потому они не могут быть уничтожены механически. Думать, что будто преступления существуют только потому, что существует в цивилизованном обществе суд, что будто вражда существует только потому, что существует в культурном государстве организованное войско и полиция, что будто с уничтожением форм культурной жизни уничтожится и зло в сердце человеческом, — есть явное заблуждение. Действительно ненужными суды и войско становятся только для духовно-возрожденных.
Читать дальше