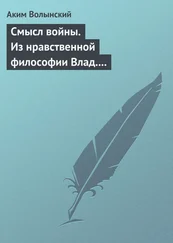Имея в виду пушкинского Сальери, мы говорим не столько о драме «измаявшегося безбожия», сколько о драме самоубийственной гордыни, обернувшейся низкой завистью и гнусным злодейством. Поэтому у нас меньше оснований поверить в «трагедию богооставленности.», переживаемую якобы Гариным из «Завоевателей» Андре Мальро (это с его-то заповедью: «Руководить. Определять. Принуждать. Жизнь в этом»?), или Гецем из сартровской пьесы «Дьявол и господь бог» (это он-то, с «легкостью необыкновенной» убивающий направо и налево — сперва для того, чтобы утвердить одну свою «правду», а затем — диаметрально противоположную?!).
Надо отдать справедливость С. Великовскому: он дает нам в руки богатый материал, чтобы мы не поверили его утверждению, будто «самочувствие такого рода насквозь трагично…» [4]. Факты, которыми снабжает нас автор этой книги, заставляют нас усомниться и в том, не столь уж случайном для нее тезисе, согласно которому источник «пантрагических» переживаний и поступков экзистенциалистских героев безверия — это одновременно и утрата ими веры в бога, и «неокончательность» этой утраты [5], а не тщеславно-суетное стремление «сверхчеловеков» поступать в отношении «обыкновенных», «средних» людей так, как если бы имели божественную власть над ними, право распоряжаться их жизнью и смертью. Ведь если, как убедил нас Пушкин, таким образом пытались поступать уже отдаленные предшественники этих «героев безверия», причем еще в те времена, когда «на трагическое еще не лег полновесно «гнет бытийной «смыслоутраты» [6], то что приходится ожидать от «героев» иных времен, когда это «полновесие» осуществилось?..
Есть, правда, один «нюанс», существенно отличающий пушкинского Сальери — предтечу ницшеанского «сверхчеловека» от французских отпрысков этого последнего, рожденных в русле экзистенциальной интеллектуальной романистики. Экзистенциальным «героям неверия» решительно чужда и малейшая доля той рефлексии, имевшей свой истинный источник в угрызениях дотоле молчавшей совести, которую вызнало в душе Сальери осознание истинного смысла совершенного им злодейского убийства «другого». Как правило, они «гробят» совсем даже и не одного, а многих «других». Причем каждое из этих убийств, совершенных ими без зазрения совести и без малейшего сомнения в его «оправданности», как бы молчаливо утверждает их в своем праве делать следующее.
Различие между этими ницшеанскими установками, на почве которых и родился французский экзистенциалистский роман, так и не освободившийся до конца от своего «родимого пятна», с одной стороны, и глубоко нравственным пафосом, изначально одушевлявшим большую русскую литературу в решении той же проблемы «убийства» — с другой, предстает особенно разительным, когда мы обращаемся к роману Достоевского «Преступление и наказание», в котором тема пушкинского Сальери получает дальнейшее углубленное развитие, разрастаясь в целостную философию совести.
Родион Раскольников и «тайна ницшеанского «сверхчеловека»
В самой общей схеме «Преступления и наказания» воспроизводится парадигма, обретенная Пушкиным в ходе его. «драматического исследования» (так он был склонен рассматривать свои «маленькие трагедии») феномена сальеризма. Но каждый элемент этой парадигмы рассматривается Достоевским как бы через микроскоп, и в результате на месте «маленькой трагедии» появляется большая, сама, в свою очередь, распадающаяся на бесконечный ряд «маленьких трагедий». Вот эти основные элементы, каждый из которых высвечивает особый аспект сознания индивида, желающего утвердить себя в качестве «сверхчеловека», находящегося «по ту сторону» нравственных норм и моральных законов, значимых, по его убеждению, лишь для «обыкновенных» людей, но отнюдь не для «необыкновенных»:
1. Предпосылка сознания этого типа — все то же убеждение насчет полнейшего отсутствия «высшей правды», возникающее при виде несправедливостей, творящихся вокруг, и усиливаемое личными невзгодами и неурядицами, иначе говоря, вывод о том, что «правды нет — и выше», делается на основе констатации факта отсутствия ее «на земле».
2. Отсюда стремление утвердить эту «правду» самому, так сказать, на свой страх и риск, и стало быть — как свою собственную, личную правду; «мою» правду я хочу предложить взамен отсутствующей — как на земле, так и на небе.
3. Но как только я начинаю размышлять о том, как бы мне осчастливить человечество, утвердив среди людей мою правду, я замечаю, что кое-какая правда меж людьми все-таки обретается.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу