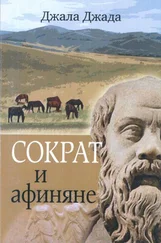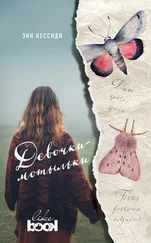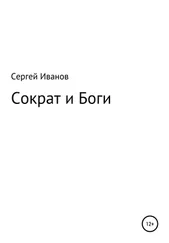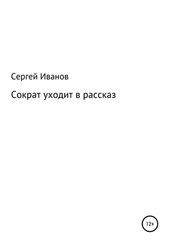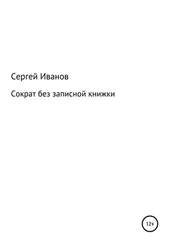Между тем смерть философа — не самоубийство и не судебная ошибка. Позиция Сократа на суде неотделима от его философско-этической установки следовать велениям совести и разума, от его личности, чуждой конформизма и приспособленчества к обстоятельствам. Сократ был убежден, что то, чему он посвятил свою жизнь, — философствование и наставление граждан на путь самопознания и нравственного самосовершенствования — является благом, а не злом. Злом он считал интеллектуальную «спячку», в которой, по его мнению, пребывали его соотечественники.
Сократу, учившему, что главный вопрос жизни есть вопрос о добре и зле и что человек во всех ситуациях может и должен выбирать добро, была предоставлена возможность, причем на личном примере, доказать осуществимость того, чему он учит. На суде ему предстоял выбор: прекратить философствование и сохранить жизнь или под страхом смерти продолжать свою деятельность. Для Сократа отказ от своей миссии был равносилен отказу от жизни, Сократ выбрал смерть. Для таких цельных и честных натур, как Сократ, иной альтернативы не было. На это указывал еще Гегель. Точка зрения Гегеля разделялась Т. Гомперцем (см. 10, 83) и другими учеными. Она находит сторонников и в настоящее время.
По Гегелю, вынесение смертного приговора Сократу было следствием правомерного конфликта между индивидуумом, сознательно высказывавшим «новый принцип духа», новое мировоззрение, и народом, отстаивающим свой «субстанциальный дух», то есть то, что составляет основу его бытия, — существующее умонастроение, общепринятые традиционные представления о мире и жизни, сложившиеся обычаи и нравы (см. 9, 84–85). Этот конфликт, неизбежный «во всемирной истории», представляет собой трагедию, в которой погибает индивид-герой, но не выдвинутый им принцип. Гегель пишет: «В подлинно трагическом… два противоположных права выступают друг против друга, и одно разбивается о другое; таким образом, оба терпят урон, оба также правы друг против друга, и дело не обстоит так, что будто бы лишь одно есть право, а другое есть не-право» (там же, 87).
Итак, афиняне, казнившие Сократа, были правы, так как они отстаивали основы своей «нравственной жизни». Однако и Сократ был прав, так как он выдвинул новый принцип, ознаменовавший собой наступление новой эпохи, новой фазы в истории мира и всего человечества.
Исходя из того, что сложившиеся в данную эпоху социальные институты и идейные структуры исторически оправданы, Гегель был склонен преувеличивать право старого на существование. Точнее, соотнеся право старого и право нового, он ставил бытие нового в зависимость от суда над ним старого, требовал, чтобы новое оправдалось перед старым. Отсюда одинаковое признание двух прав, признание двоякой справедливости. Но одинаковое признание двух прав, как и двух истин, мало кого может удовлетворить. Это не могло удовлетворить и Гегеля, прославлявшего всемирную историю как единый процесс. Чтобы выйти из этого положения, он представил конфликт Сократа с его эпохой как феномен трагедии.
Между тем осуждение Сократа — не только трагедия, но и событие в общечеловеческой истории (а также факт нравственного порядка), подлежащее суду Истории. Тот, кто признает, что с именем Сократа связан новый этап в истории философской мысли, не может оправдать приговора над ним. С этой точки зрения неприемлема и половинчатая позиция, занятая Гегелем в вопросе о справедливости приговора. Притупив остроту вопроса ссылкой на трагическое проявление справедливости в истории, на столкновение двух равных прав в ту или иную эпоху, Гегель пришел к выводу о, так сказать, невиновной виновности Сократа и предложил примириться с приговором.
Однако если и возможно какое-то примирение с приговором, то лишь с позиции самого Сократа, по словам которого, с хорошим человеком «не бывает ничего плохого ни при жизни, ни после смерти» ( Платон . Апология, 41 d). Это убеждение вытекало из его идеи о том, что добродетель при всем ее многообразии и при всей противоречивости ее проявлений едина и одна. Для него не было тайной, что понятия о добре и зле, о справедливом и несправедливом являются относительными. Он понимал, что один и тот же поступок является в одном отношении добром, а в другом — злом. Однако он отказывался считать два взаимоисключающих поступка (например, обвинение, выдвинутое против него, и непризнание им своей вины на суде) одинаково справедливыми, одинаково добродетельными на основании двоякого характера справедливости и добродетели. Это было для него равносильно одновременному признанию множества истин об одном и том же.
Читать дальше
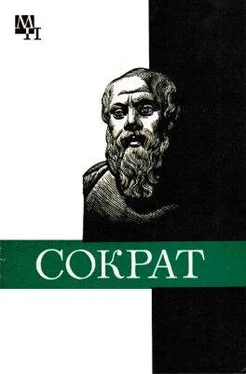
![Анне-Катрине Вестли - Аврора и Сократ [Повести]](/books/26433/anne-katrine-vestli-avrora-i-sokrat-povesti-thumb.webp)