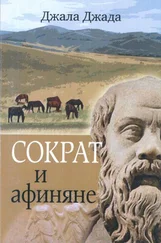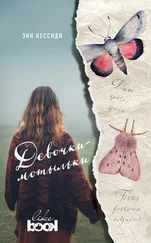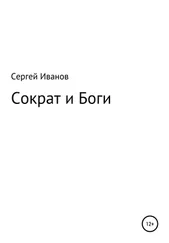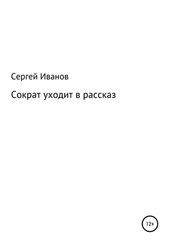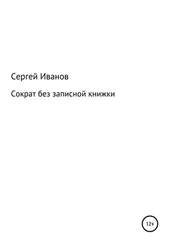Несмотря на всеобщее отчаяние, охватившее афинян, они не хотели примириться с поражением и решили продолжать борьбу. По предложению одного из лидеров демократической партии, Клеофонта, был принят закон о предании смертной казни всякого, кто заговорит о мире. Однако Пирей был блокирован неприятельским флотом, а Афины окружены с суши и таким образом отрезаны от всего остального мира. Среди осажденных начался голод и стали распространяться болезни. В этих условиях взяла верх олигархическая партия, стоявшая за немедленный мир со Спартой. Клеофонта предали суду и казнили. В 404 г. до н. э. был заключен мир со Спартой, и власть перешла в руки Тридцати тиранов во главе с крайним олигархом Критием. Одно время Критий входил в число собеседников Сократа.
В этих условиях неповиновение Сократа властям было примером гражданского мужества. Получив вместе с четырьмя другими лицами приказ об аресте противника олигархов Леонтия Саламинского, осужденного на казнь, он демонстративно отказался от выполнения приказа, несмотря на реальную угрозу самому стать жертвой террора. «Возможно, меня бы за это (за отказ от выполнения приказа правительства Тридцати тиранов. — Ф. К.) казнили, — говорит Сократ у Платона, — если бы правительство не пало в скором времени» (Платон. Апология, 32 d — е).
Таким образом, Сократ во время правления Тридцати тиранов, презревших всякую законность и справедливость, вел себя с достоинством независимого гражданина, сообразно своим представлениям о законности и справедливости.
Точно так же и при демократическом строе он выступал против большинства, когда оно было готово в тех или иных случаях отступить от закона и законности, нарушить им же самим установленные и обязательные для всех законы, вместо того чтобы соблюдать их всегда и во всех жизненных ситуациях. Ведь если закон и закрепленную им справедливость (т. е. правовую норму) можно нарушать по какому-то «особому» случаю, то нет никаких гарантий, что в многообразии жизненных ситуаций они не будут попраны по другому «особому» случаю и, стало быть, вместо господства закона, права и справедливости общество окажется во власти беззакония, бесправия и несправедливости, в обстановке анархического своеволия, даже если это и своеволие большинства.
Дело в том, что афинская демократия, которая в период правления Перикла (444–429 гг. до н. э., исключая 430 г.) сочетала в себе автократию с демократией, при его преемниках приняла более радикальную форму, в результате чего полномочия народного собрания стали все более расширяться за счет компетенции Совета пятисот и суда присяжных, гелеи.
Распоряжаясь почти всеми сторонами государственной жизни посредством «псефизм» (постановлений), народное собрание в последней четверти V в. до н. э. стало пренебрегать законами, что привело к стиранию различия между постановлениями и собственно конституционными законами. В результате утраты этого различия, свидетельствовавшей о начале конца афинской демократии, начали распространяться представления, что народное собрание может делать все, что угодно. Между тем в пору расцвета афинской демократии народ ограничивал себя законом, признавал его господство над собой. Вспоминаются вещие слова Гераклита Эфесского: «Народ должен сражаться за закон, как за свои (городские) стены», «Своеволие следует гасить скорее, чем пожар» (22, В 43, В 44 ДК) [5] Фрагменты досократиков даются по сборнику «Die Fragmente der Vorsocratiker. Griechish und Deutsh von H. Diels». Herausgegeben von W. Kranz. Bd I–III. 13 Auf. Dublin-Zurich, 1968 (здесь и далее сокращено ДК).
Сократ был одним из тех, кто сознавал опасные последствия отхода от законов, и в частности замены их псефизмами. Он пытался бороться, хотя и безуспешно, против этой тенденции, наметившейся в конце V в. до н. э. В призыве следовать законам по существу и состоит то, что считается антидемократизмом или аристократизмом Сократа. Вопрос этот достаточно сложен, поэтому рассмотрим его более подробно.
5. Об отношении Сократа к демократии . Основу благополучия государства и нормального функционирования его учреждений Сократ видел в нерушимости законов, в повиновении граждан законам (см. Ксенофонт. Воспоминания, IV 6, 6). Вождь афинского демоса Перикл также считал одним из главных устоев демократии нерушимость законов государства и повиновение лицам, облеченным властью в данное время (см. Фукидид. История. II 37, 3).
В отрицательном отношении Сократа к нарушению законности не было по сути дела ничего антидемократического. Вряд ли что-либо антидемократическое, по нашему мнению, заключалось и в сократовском понимании «аристократии». По свидетельству Ксенофонта, Сократ считал «аристократией» (буквально — «власть лучших») только тот государственный строй, где «должностные лица выбираются из людей, исполняющих законы» ( Ксенофонт . Воспоминания, IV 6, 12). Где же тут защита Сократом «аристократии» как «власти родовой знати»? В том же тексте Ксенофонта Сократ определяет плутократию (буквально — «власть богатства») как форму правления, при которой выбор должностных лиц осуществляется в соответствии с имущественным цензом (см. там же). А то, что он именует «аристократией», не предполагает, как мы считаем, ни привилегии родовой аристократии (привилегии происхождения), ни имущественного ценза плутократии или какого-либо иного ценза, за исключением способности исполнять законы. «Кого, — спрашивает Сократ у Гиппия, — государство в целом своем составе признает более заслуживающим доверия, как не того, кто соблюдает законы» (см. там же, IV 4, 17). Но что такое «законы» в понимании Сократа? На этот весьма важный вопрос мы находим прямой ответ: в беседе с Гиппием о справедливости Сократ, отождествляя понятия «законное» и «справедливое», приходит вместе со своими собеседниками к выводу, что государственные законы — «это то, что граждане по общему соглашению написали, установив, что должно делать и от чего надо воздержаться» (см. там же, IV 4, 13). Естественно, что в глазах Сократа тирания была беззаконием и несправедливостью, правлением «против воли народа и не на основании законов, а по произволу правителей» (см. там же, IV 6, 12).
Читать дальше
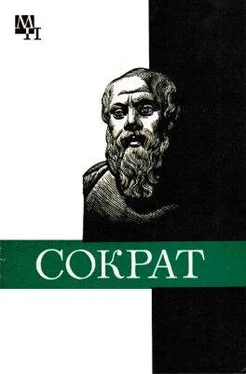
![Анне-Катрине Вестли - Аврора и Сократ [Повести]](/books/26433/anne-katrine-vestli-avrora-i-sokrat-povesti-thumb.webp)