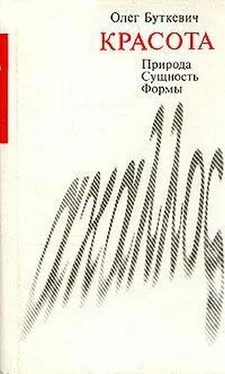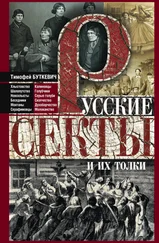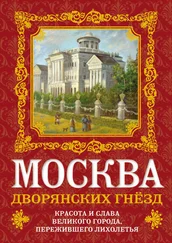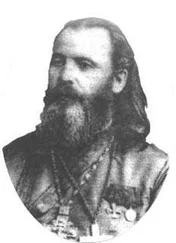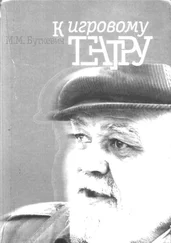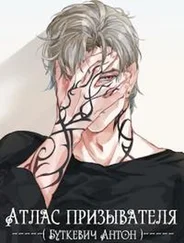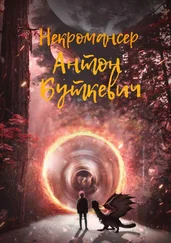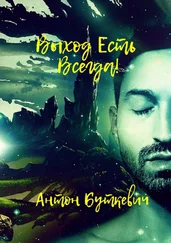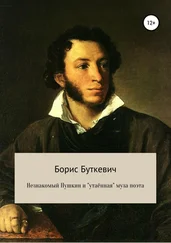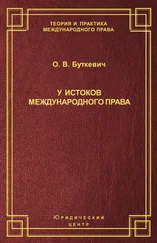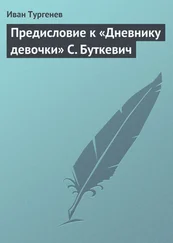На этом обстоятельстве нужно задержать внимание хотя бы потому, что ведь предметом как непосредственного восприятия, так и абстрактного мышления могут быть явления и не обладающие вовсе чувственностью в физическом смысле слова. Соответственно, тренированный мозг математика, например, совершенно непосредственно реагирует на недоступные (даже логически) для огромного большинства людей математические выкладки. Философ, не прибегая к логическим умозаключениям, непосредственно воспринимает сложнейшие философские категории и т. д. Дело не в том, что непосредственное восприятие непременно связано с физической чувственностью, но в том, что в непосредственном восприятии собственная сущность познаваемого воспринимается не абстрактно, не отвлеченно (как она познается и формулируется наукой), но со стороны непосредственного ее воздействия в том или ином явлении на сознание человека.
Она воспринимается в человеческом непосредственном отношении , воспринимается во взаимодействии объекта и субъекта непосредственного восприятия. Объективное содержание познания здесь остается неотделимым от субъективного «я» познающего. Именно поэтому непосредственное восприятие одного и того же явления или процесса может быть не только в разной степени выражено у различных людей, но и качественно по-разному осознано, вплоть до полной противоположности субъективного отношения. Например, зрительное восприятие высоты или простора в одних способно вселить ощущение радости и свободы, а на других может подействовать угнетающе.
Можно сказать, что все или во всяком случае почти все непосредственно воспринимаемые явления и процессы жизни, благодаря непрерывному опосредованию восприятия логикой, опытом и знаниями раскрывают нам несравненно большие значения, нежели те внешние качества или свойства действительности, которые мы в данный момент физически воспринимаем.
«Вопрос единственности, общности чувственных и интеллектуальных процессов в структуре сознания имеет свою историю развития. Гельмгольц видел основу этой общности в бессознательных умозаключениях, посредством которых из непосредственных ощущений, многозначных узоров, рисуемых на сетчатке глаза световыми лучами, возникают образы предметов. Аналогично Грегори описывает различного рода системы „интеллектуальных" механизмов, включенных в работу глаза и обеспечивающих „разумность" и адекватность зрительного восприятия. На факты такого рода ссылается А. Леонтьев, обсуждая вопрос о психологической многомерности развитого сознания индивида [...] В то же время А. Леонтьев отмечает в качестве „решающего шага" утверждение в психологии идеи о разных уровнях психического отражения. Он видит в явлениях сознания их чувственную грань и отражение мира, опосредованное значениями, глубоко анализируя как взаимосвязь, так и специфику уровней сознания. В то время как чувственные образы сохраняют свою изначальную предметную отнесенность, несмотря на любое усложнение связен их с другими процессами и реализующими их формами деятельности, значения преломляют мир в сознании человека. Выступая перед субъектом не только в качестве объектов его сознания, но и в качестве способов и механизмов осознания, то есть функционируя в процессах отражения субъектом объективной действительности, значения именно в этом качестве вступают во внутренние отношения, связывающие их с другими „образующими" сознания, в частности с восприятием, которое приобретает новые системные качества» 10.
Однако здесь возникает вопрос, чрезвычайно существенный лля правильного понимания всего последующего. Обретает ли непосредственное восприятие это дополнительное «осмысленное» содержание в результате чисто условного наделения его некими привходящими умозрительными знаниями, никак недетерминируемыми непосредственно воспринимаемыми особенностями реального объекта восприятия; или же опосредованность знаниями развивает нашу непосредственность, помогает непосредственному восприятию в самих реальных явлениях ярче, полнее, глубже ощутить их внутренний, существенный для нас собственный смысл, на который нацеливает все то прошлое и настоящее, что опосредует непосредственное восприятие? От ответа на этот вопрос зависит очень многое.
Если согласиться с тем, что очевидное и ежечасное всестороннее обогащение непосредственного восприятия происходит лишь за счет привнесения извне знаний, подтверждение которым абсолютно невозможно получить непосредственно в объекте восприятия, то это означает, что исходным и доминантным моментом здесь оказывается в конечном счете априорность сознания. Ибо возрастание субъективного момента восприятия становится бесконечным, тогда как объективная его обусловленность остается весьма ограниченной. Ее ограничивают раз навсегда данные гносеологические возможности непосредственного восприятия, понимаемого лишь как пассивная фиксация внешних, поверхностных сторон действительности, ее самого наружного слоя, как бы отсеченного от глубинных сущностей.
Читать дальше