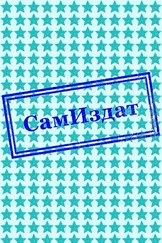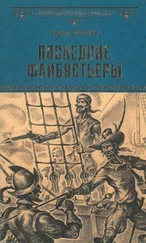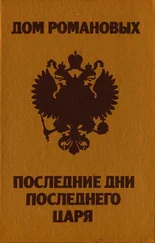Философские последствия этого переворота значительны. Мы их проглядим, если ограничимся констатацией конечности, обесценивающей идеал прозрачности трансцендентального субъекта для самого себя. Идея конечности сама по себе остается банальной, даже тривиальной. В лучшем случае она лишь формулирует в негативных терминах отказ от всякого Hybris (высокомерие) рефлексии, от всяких притязаний субъекта найти основание в самом себе. Открытие первичности бытия- в- мире по отношению ко всякому проекту обоснования и всякой попытке конечного установления истины обнаруживает всю свою силу, когда из него извлекаются выводы для эпистемологии новой онтологии понимания. Только извлекая эти эпистемологические выводы, я смогу перейти от ответа на первый вопрос ко второму вопросу, поставленному в начале третьей части очерка. Я резюмирую этот эпистемологический итог следующей формулой: не существует понимания самого себя, не опосредованного знаками, символами и текстами: самопонимание в конечном счете совпадает с интерпретацией этих опосредую-щих терминов. Переходя от одного к другому, герменевтика шаг за шагом избавляется от идеализма, с которым Гуссерль пытался отождествить феноменологию. Проследим теперь фазы этого освобождения.
Опосредование знаками: этим устанавливается изначальная языковая предрасположенность любого человеческого переживания. Восприятие сказывается, желание сказывается. Уже Гегель показал это в "Феноменологии духа". Фрейд извлек из этого другое следствие: не существует до такой степени потаенного, скрытого или извращенного желания, чтобы оно не могло быть прояснено языком и благодаря выходу в сферу языка не выявило своего смысла. Психоанализ как talk-cure (словолечение) не имеет иной предпосылки, кроме этой изначальной близости желания и речи. И так как речь воспринимается скорее, чем произносится, самый короткий путь Я к самому себе- это речь другого, позволяющая мне проскочить открытое пространство знаков.
Опосредование символами- под этим термином я имею в виду обладающие двойным смыслом выражения, в традиционных культурах связанные с именами космических "элементов" (огня, воды, воздуха, земли и т. д.), их "измерений" (высота и глубина и т. д.) и "аспектов" (свет и мрак и т. д.). Эти выражения располагаются в несколько ярусов: символы наиболее универсального характера; символы, присущие только одной культуре; наконец, созданные отдельным человеком и даже встречающиеся только в одном произведении. В последнем случае символ совпадает с живой метафорой. Но, с другой стороны, не существует, наверное, символотворчества, не коренящегося в конечном итоге в общечеловеческом символическом основании. Я сам когда-то набросал "Символику Зла", где рефлексия злой воли целиком основывалась на опосредующей роли некоторых выражений, обладающих двойным смыслом, таких, как "пятно", "падение", "отклонение". Я даже сводил в то время герменевтику к истолкованию символов, т. е. к выявлению второго, часто скрытого смысла этих двусмысленных выражений.
Теперь это определение герменевтики через истолкование символов кажется мне слишком узким. Для этого есть два основания, которые заставляют перейти от опосредования символами к опосредованию текстом. Прежде всего я заметил, что традиционный, или частный, символизм раскрывает свои ресурсы умножения смысла только в собственных контекстах, т. е. на уровне полного текста, например, поэмы. Кроме того, один и тот же символизм допускает соперничающие и даже полярно противоположные истолкования в зависимости от того, нацелено ли истолкование на сведение символизма к его буквальному основанию, бессознательным истокам или социальным мотивациям или же на расширительное толкование, соответствующее наибольшей его способности к многозначности. В одном случае герменевтика ориентирована на демифологизацию символизма, показывая скрытые в нем неосознанные силы, в другом- на отыскание наиболее богатого, высокого, духовного смысла. Впрочем, этот конфликт интерпретаций в равной степени проявляется на текстуальном уровне.
Из этого следует, что герменевтика уже не может быть определена просто через истолкование символов. Тем не менее это определение должно быть сохранено как этап между общим признанием языкового характера опыта и более техническим определением герменевтики через истолкование текстов. Кроме того, она способствует рассеиванию иллюзии об интуитивном познании Я, предлагая окольный путь к пониманию Я через богатство символов, передаваемых через культуры, в лоне которых мы обретаем одновременно и экзистенцию, и речь.
Читать дальше

![Александр Говоров - Последние Каролинги [с иллюстрациями]](/books/24055/aleksandr-govorov-poslednie-karolingi-s-illyustrac-thumb.webp)