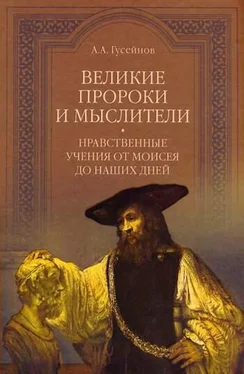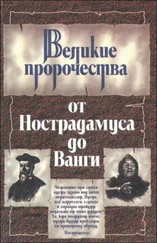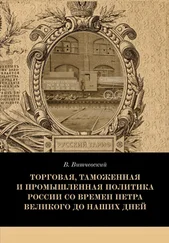Ответом может быть следующее утверждение Канта: «Понятие умопостигаемого мира есть, следовательно, только точка зрения, которую разум чувствует себя вынужденным принять вне явлений для того, чтобы мыслить самого себя практическим» (259). Невольно возникает вопрос: не является ли все учение Канта об умопостигаемом мире скрытой иронией? Быть может, и в данном случае Кант рассуждает по излюбленному принципу «как если бы»: если бы человеческий разум попытался заняться превышающим его компетенцию вопросом о том, как возможна автономия воли, именуемая еще нравственным законом, безусловной необходимостью, самоцелью, то он неизбежно пришел бы к непостижимой идее умопостигаемого мира.
Все это означает, что нравственный закон не может быть предметом познания и следствием какого бы то ни было логического суждения (утверждать обратное — значило бы отказаться от нравственного закона в его безусловности, абсолютной необходимости), он является — предметом веры, для Канта разумной веры. Кант не смог ответить на вопрос, кто является автором восстановленного шедевра. Он честно признал, что ответить на этот вопрос невозможно, да и сам вопрос неправомерен, так как шедевр, о котором идет речь — нечеловеческого происхождения.
Постулат умопостигаемого мира как источника свободы, а через неё и нравственного закона, ничуть не обогатил сам нравственный закон.
Постулаты бессмертия души и существования бога
Свобода и необходимость — два разнообразных типа причинности, — составляют взаимосоотнесенные, но никогда не пересекающиеся между собой уровни бытия человека. Их можно сравнить с наложенными друг на друга параллельными орбитами. Словом, Кант развел свободу и необходимость, интерпретировав их как разные измерения одного и того же. При этом он предположил, что «нет настоящего противоречия между свободой и природной необходимостью тех же самых человеческих действий»(251). Противоречия нет, ибо они не встречаются на одном поле и в одно время. Противоречия нет даже в том случае, когда человек в силу необходимости становится убийцей, ибо в силу свободы он может квалифицировать это свое действие как злодейство. Однако идея категорической повелительности нравственного закона предполагает соответствия, соединения между свободой и необходимостью человеческих поступков, когда их нравственная чистота дополняется эмпирической оправданностью. Речь идет о соединении добродетели и счастья, долга и склонностей.
Как возможно такое соединение? Если предположить, что нравственность и жизненные потребности приводятся в человеке соответствие друг с другом чем-то третьим (мировым разумом, предустановлением бога и т. д.), то это противоречило бы идеи автономии воли. Точно также нельзя помыслить, что мотивы добродетели вытекают из мотивов счастья, ибо первые по определению противостоят вторым. Эти варианты безусловно невозможны. Остается третье решение, когда счастье, жизненные потребности рассматриваются как следствие нравственности, добродетели. Но и оно невозможно, так как «всякое практическое сочетание причин и действий в мире как результат определения воли сообразуется не с моральными настроениями воли, а со знанием законов природы и физической способностью пользоваться этими законами для своих целей» (593). Не всегда руки могут дотянуться до того, чего хочет сердце. Старый, прикованный к инвалидной коляске человек не может реализовать свое намерение оградить на улице ребенка от хулиганов. Погибший на войне юноша не смог позаботиться о своих старых родителях, хотя он считал это своим долгом. Невозможность этого варианта не является безусловной. Действия по моральным мотивам вполне могут удовлетворять и критериям себялюбия как, например, у того же уже упоминавшегося торговца, для которого честное ведение дел оказывается и весьма прибыльным. Но чтобы соответствие добродетели, морали как первопричины и первоцели со счастьем как следствием и целью второго ранга было необходимым, для этого требуются дополнительные условия.
Первым условием является полное соответствие воли с моральным законом, когда следование моральному закону исчерпывает все желания и воля становится святой. В случае человека нечто подобное можно помыслить только в перспективе бесконечного нравственного совершенствования, что предполагает бесконечное существование или бессмертие души.
Вторым условием является способность разумного существа «привести природу в полное согласие со своими практическими основоположениями» (625), чтобы параллельно тому как его воля сливается с нравственным законом природа уже по своим канонам гарантировала ему достижение счастья. Говоря по другому, необходимо саму природу преобразовать адекватно нравственной задаче. Это возможно только в том случае, если предположить существование причины всей природы, которая берет на себя гарантию соответствие нравственности и счастья. «Высшая причина природы, поскольку ее необходимо предположить для высшего блага, есть это существо, которое благодаря рассудку и воле есть причина (следовательно, и первооснователь) природы, т. е. Бог» (627).
Читать дальше