Эта переориентация вызвала не только изменение способов философского доказательства, но и осознание его необходимости. Прокопович не считает ссылку на Библию аргументом в философском доказательстве. «Не следовало бы, — говорит он, — философу рассуждения свои доказывать историею и священного писания доводом» (39). Он критикует своих идейных противников за то, что они вместо ссылок на наблюдение, опыт, эксперимент, рациональное доказательство обращаются к теологии: «Противоборцы наши… оставив философию, прибегают к богословию с историею» (там же, 63).
Если предпосылкой и философским выражением начала сближения философии и естествознания в XV–XVI вв. был пантеизм, то следствием этого сближения стал деизм, который все отчетливее выступает со второй половины XVII в. Хотя деистические и пантеистические элементы в мировоззрении ученых и философов XVII–XVIII столетий продолжают переплетаться, деистическая тенденция становится преобладающей. Развивающееся естествознание, на определенном этапе довольствовавшееся растворением бога в природе, подошло к необходимости вовсе убрать его из природы и полностью отделить науку от теологии. Так, Декарт, признавая, что бог является творцом мира, устраняет его из природы при помощи пояснения, согласно которому достоинство абсолютного и неизменного бога несовместимо с вмешательством в дела подвижной и изменчивой природы.
Прокопович, в «Натурфилософии» которого имеются значительные элементы деизма, эту операцию проделывал несколько иначе. По его мнению, создав природу, бог каждую вещь наделил собственным правом или законом, который, если рассматривать его по отношению ко всей природе, есть естественный закон или порядок природы. Законы не создаются богом отдельно от вещей и помимо природы, они вытекают из этих вещей и природы. Оказывается, бог «при создании мира сохранял порядок, который, как мы знаем, наиболее соответствует природе» (61, 156 л.), т. е. бог приспосабливался к природе, «применяя постепенный переход от менее совершенного к более совершенному». Уже в процессе создания мира этот довольно необычный бог зорко наблюдал, «чтобы при самом возникновении природы не пренебрегались законы и порядок природы» (там же, 155 л.).
Создав природу, бог «сам себя связал законами» (124, 87 об.). Признание этого положения было выражением допущения существенного ограничения всемогущества бога, ибо бог, связанный законами, далеко не все может. Однако «всемогуществом божьим» Прокопович манипулирует довольно произвольно, бог оказывается у него то «всемогущим», то «связанным законами», в зависимости от потребностей его концепций природы, мышления, общества. Действительно, он апеллирует к всемогуществу божьему, когда в борьбе с церковными ортодоксами и сторонниками «простоты ума» отстаивает учение Коперника и Галилея или говорит о возможности существования множественности миров. Предвидя обвинение в еретизме и атеизме, он заранее переадресовывает это обвинение своим идейным противникам. Кто отрицает множественность миров, говорит он, тот сомневается во всемогуществе бога, в его способности создать бесконечное количество иных миров. В данном случае он заставляет теологию служить науке. Но в его «Натурфилософии» бог не может нарушить законы природы, а в «Логике» — законы мышления.
Законы природы интерпретируются в сочинениях Феофана как абсолютно необходимые, постоянные, неизменные. Несомненно, такое рассмотрение законов природы диктовалось господствовавшим в то время в философии и естествознании метафизическим методом мышления. Вместе с тем оно было аргументом против теологии, с ее постоянным обращением к сверхъестественному, хотя у Прокоповича этот антитеологический по содержанию аргумент был облечен еще в теологическую форму. По его мнению, никто и ничто не может изменить законов природы. «Бог, — говорит он, — сам себе не противоречит и законы свои, единажды утвержденные, никак не отменяет» (39, 85). Но если бы бог изменял или устранял законы природы, то он, несомненно, противоречил бы сам себе, что абсурдно. Более того, изменение законов природы свидетельствовало бы об их несовершенстве, а следовательно, и о несовершенстве их творца.
По существу постоянные и неизменные законы природы становятся в «Натурфилософии» Прокоповича на место бога и служат средством его элиминации. Они делают совершенно ненужным и излишним всякое последующее вмешательство бога в дела природы. Созданная богом природа живет дальше на основании своих законов. Все содержание «Натурфилософии» Прокоповича свидетельствует о его стремлении объяснить природу из нее самой, из закономерной связи природных явлений.
Читать дальше
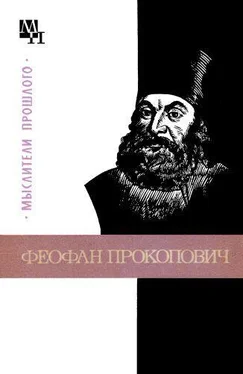
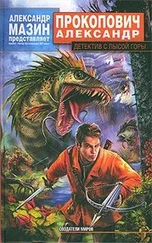


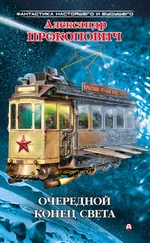
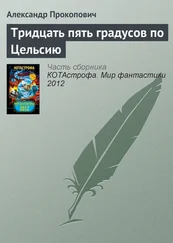



![Феофан Крюков - О непрестанной молитве [Поучения святителя Феофана Затворника]](/books/395010/feofan-kryukov-o-neprestannoj-molitve-poucheniya-svya-thumb.webp)

