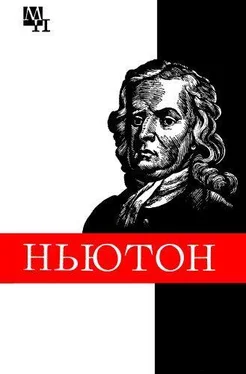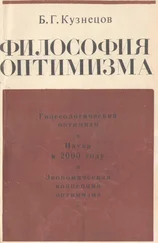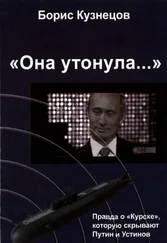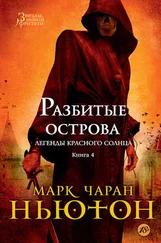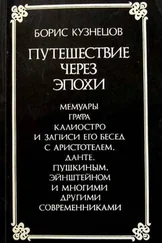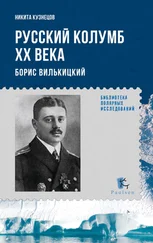Какие необратимые процессы пробивали себе дорогу через конфликты, войны, реставрации и повторные революционные взрывы, заполнившие эту хронологическую канву?
Если говорить о потребностях Англии, то период от революции 1648—1653 гг. до «славной революции» принес стране торговое преобладание, навигационные акты Кромвеля, развитие промышленности — развитие практического опыта и технических запросов, которые были так тесно взаимосвязаны с наукой. В Англии XVII в. мы видим только первый акт «победы просвещения над суеверием» — радикальной победой стал век Просвещения на континенте. Первый акт состоял в значительной дискредитации католического догматизма в русле кальвинистской религиозности. В Англии не было диктатуры католицизма, не было инквизиции, не было конгрегаций. Католицизм не только в Англии, но и в католической Ирландии был по существу блокирован, он стал обороняющейся стороной и даже в лучшие для него времена, после реставрации Стюартов, не мог претендовать на духовную гегемонию. Реформированная церковь также не могла выдвигать подобные претензии. Она была разделена на враждующие направления. Тот факт, что революция происходила в религиозной форме, делал саму религию более пластичной. Она ожидала помощи от науки, от «мощных томов видимой природы и вечных таблиц здравого разума»; от этих «томов» и «таблиц» уже не требовали соответствия с каноническими текстами. Требовали однозначности выводов и единства картины мира. В заключении «Математических начал натуральной философии» Ньютон говорит о Солнечной системе, какой она представляется в свете механики: «Такое изящнейшее соединение Солнца, планет и комет не могло произойти иначе, как по намерению и по власти могущественного и премудрого существа» (3, 200).
Следует подчеркнуть отличие теологической концовки «Начал» от средневековых по своему духу, внешних по отношению к науке, основанных на текстах запретов и от оговорок об условности картины мира, противоречащей церковным канонам. Теологические выводы Ньютона связаны с нерешенными в «Началах» проблемами.
Таким образом, мы явственно видим связь внутренней логики познания, его внутренних логических коллизий и внешних воздействий эпохи. Связь эта настолько существенна, что само разграничение внутренней логики и внешних импульсов становится весьма условным. Такая связь определяет основное содержание биографии ученого. Основным содержанием научного творчества Ньютона стал синтез всего, что было известно о движении тел. Но такому синтезу противостояла физическая нерасшифрованность сил, зачаточная, неразвитая теория поля. Стремление к единству картины мира наталкивалось на этот барьер, и именно здесь во внутреннюю логику науки включались внешние импульсы, и в их числе — характерная для эпохи Ньютона связь науки с разработкой религиозных идей. Для посмертной эволюции идей Ньютона характерно другое. Если теория поля — физическая расшифровка учения о силах — создается в основном в XIX в., то уже в XVIII в. ньютонианство становится на континенте основой деизма, а затем и атеизма. Эта эволюция связана с философской и общественной мыслью, подготовившей Великую французскую революцию.
Каждый из двух полюсов взаимодействия — творчество Ньютона и та совокупность импульсов и условий, которая названа его эпохой, — представляется теперь уже не единым, а противоречивым. Эпоха характеризуется коллизией религиозной формы и социальной сущности английской революции; творчество Ньютона — коллизией последовательной каузальной картины движения тел под влиянием приложенных к ним сил — и «вопрошающего компонента» — физически нерасшифрованного понятия силы. Взаимодействие этих внутренних коллизий — коллизии творчества Ньютона и коллизии эпохи — заставляет по-новому взглянуть на одну весьма общую проблему научного, а также художественного творчества.
Речь идет о проблеме гениального творчества. Мало кому так единогласно (и, заметим, справедливо), как Ньютону, присваивается титул гения. Проблему гениальности, и в частности проблему гениальности Ньютона, можно рассматривать, используя понятия «сильной необратимости» познания и научной революции. Традиционное представление о гениальном научном творчестве связывает его с очень высоким уровнем общности, достоверности, с непререкаемостью и законченностью результатов, с их классическим характером. В наше время представление о гениальном творчестве неизбежно становится иным, такому творчеству должен быть приписан совсем не классический, а скорее, по классификации В. Оствальда, романтический и даже трагический компонент. Гениальное научное обобщение стягивает в сейчас очень далекое раньше , очень далекое позже , и мера такого обобщения старого и нового, исторический интервал между ними, радикальность перехода, антагонизм между прошлым и будущим, глубина конфликта между объединенными в сейчас идеями, которым принадлежит будущее, и идеями, уходящими в прошлое, одним словом, мера «сильной необратимости» познания становится мерой гениальности.
Читать дальше